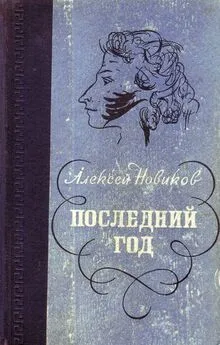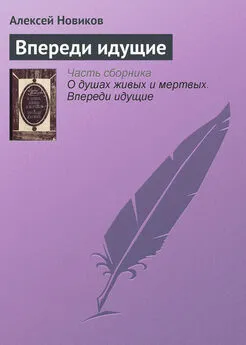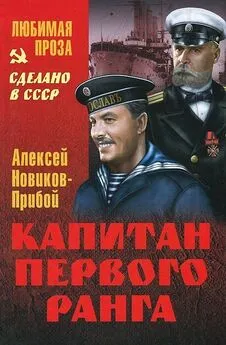Алексей Новиков - Последний год
- Название:Последний год
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Советский писатель»
- Год:1961
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Новиков - Последний год краткое содержание
Имя писателя Алексея Новикова знакомо читателям по романам: «Рождение музыканта» (1950), «Ты взойдешь, моя заря!» (1953), «О душах живых и мертвых» (1957, 2-е изд. 1959). В этих книгах, выпущенных издательством «Советский писатель», автор рассказывает о жизни и творчестве Михаила Глинки, Гоголя, Лермонтова, Белинского, Герцена, Кольцова. В тех же романах писатель обратился к образу Пушкина, к его широким дружеским связям с передовыми деятелями русского искусства.
Роман А. Новикова «Последний год» (1960) целиком посвящен Пушкину, последнему периоду его жизни и трагической гибели (1836–1837 годы). В полную меру своих сил творит Пушкин – поэт, романист, историк, издатель журнала, собиратель молодых талантов русской литературы, – и в это же время затягиваются в один узел тайные нити заговора, угрожающего жизни поэта. Сокровенные чаяния политических врагов Пушкина угодливо осуществляет проходимец Дантес. «Семейная драма» Пушкина раскрывается в романе А. Новикова как одно из звеньев того же чудовищного заговора многоликой реакции против народного поэта.
Автор использовал обширный исторический материал, частично неизвестный или мало известный широкому читателю, и заново прочел некоторые свидетельства современников, сочетав труд исследователя с задачами художественного воплощения темы.
Последний год - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что же удивительного, если даже министры явились? И что значило сияние образов в сравнении с блеском пышных эполет и орденов на мундирах молящихся! Церковь была переполнена – здесь были министры и генерал-адъютанты его величества, кавалерственные дамы и камергеры…
В Конюшенную церковь явился высший свет, чтобы торжествовать вместе со смертью. У дверей церкви, куда притекало волна за волной безбрежное море народное, утверждалось бессмертие поэта.
Церковная служба подходила к концу. Архимандрит вознес моление о том, чтобы господь упокоил новопреставленного в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная…
Началось последнее прощание. Долго ждал очереди Иван Андреевич Крылов. Пропустил вперед всех друзей покойного. Стоял, понурив седую голову, и вспоминал. Совсем недавно, как всегда невзначай, забежал к нему Пушкин. Как всегда, о многом быстро говорил. Иван Андреевич отвечал не торопясь, то ли по своему обыкновению, то ли потому, что хотел подольше задержать дорогого гостя. «Если бы знать, если бы тогда знать! – размышляет в горести Крылов. – Сам бы тогда связал его по рукам и по ногам и никуда бы не отпустил. А теперь вот…» Не тая слез, он последним подошел к гробу, словно самый близкий из близких.
Гроб сняли с катафалка. Раскрыли церковные двери. Печальное шествие появилось на паперти.
И вот тогда-то единым вздохом вздохнула площадь. Смели все полицейские кордоны. Каждый хотел прикоснуться к гробу. К Пушкину протягивали руки самые дальние. На мерзлые камни мостовой пролились горячие слезы.
Но уже опомнились полицейские. Процессия с гробом заворачивала в церковный двор. Там поставили гроб в подвал. Наглухо закрыли тяжелую дверь.
Граф Бенкендорф осуществил все меры пресечения, одобренные его величеством.
Медленно возвращались друзья поэта, отнесшие гроб. Народ по-прежнему заполнял площадь.
Александр Иванович Тургенев отправился к вдове. Наталья Николаевна ни о чем не расспрашивала.
Глава седьмая
Ранним утром 3 февраля царь занимался интимно-семейной перепиской. Он писал младшему брату, великому князю Михаилу Павловичу, развлекавшемуся на курортах Европы:
«С последнего моего письма здесь ничего важного не произошло, кроме смерти известного Пушкина от последствий раны на дуэли с Дантесом…» – Николай Павлович приостановился.
Может быть, монарх скажет свое слово об «известном Пушкине»? Ведь о нем говорит Россия. О нем отправили срочные донесения своим правительствам все аккредитованные в Петербурге дипломаты. Но совсем о другом думает русский царь; мысли, владеющие императором, сами ложатся на бумагу:
«И хотя никто не мог обвинить жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса и, в особенности, гнусного отца – Геккерена…»
«Это происшествие, – продолжает Николай Павлович, – возбудило тьму толков, наибольшею частью самых глупых, из коих одно порицание Геккерена справедливо заслужено. Он, точно, вел себя как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью…»
Николай Павлович долго не может успокоиться. Даже перо дрожит в его руке.
«Все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался к сестре Пушкиной. Тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна».
Последние слова написал особенно четко и твердо.
Царь все еще трудился над письмом, хотя ему оставалось досказать немногое: о том, что Дантес и Данзас, секундант Пушкина, находятся под судом.
«И кончится по закону, – коротко заключает император, – и, кажется, каналья Геккерен отсюда выбудет».
В то же утро император написал еще одно короткое письмо – своей сестре, бывшей замужем за наследником голландского короля.
«Пожалуйста, скажи Вильгельму, что я обнимаю его и на этих днях напишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни весьма известного Пушкина, поэта: но это не терпит любопытства почты».
Что хотел сказать император, убоявшийся собственной почты? Ясно одно: не поздоровится голландскому посланнику, аккредитованному при русском дворе. И вина его одна – сводничал Дантесу! Нет и не будет у царя других обвинений против убийц Пушкина. А пройдет время – и застрекочут чувствительные перья: «Государь император Николай I, разделив всеобщую печаль о смерти приснопамятного Пушкина, сурово осудил виновников гибели первого поэта России»…
И так пишется история!..
Посланник, неслыханно оскорбленный, оставался без защиты. Царь безмолвствовал. Русское правительство потворствовало либералам. Такое предположение барона Луи Геккерена казалось невозможным, но упорное молчание царя не оставляло места сомнениям. Барон Геккерен, чувствуя, что почва уходит у него из-под ног, решил искать защиты в Голландии. Он написал министру иностранных дел, барону Верстолку:
«Долг чести повелевает мне не скрывать от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине господина Пушкина с большей силой, чем предполагали…»
Было бы нелепо отрицать этот печальный для благомыслящих людей факт, когда не сегодня-завтра петербургской историей несомненно займутся газеты всей Европы. Но барон Луи умеет защищаться.
«Необходимо выяснить, – продолжал он, – что это мнение принадлежит не высшему классу, который понимал, что в таких роковых событиях мой сын по справедливости не заслуживал ни малейшего упрека. Чувства, о которых я говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс, промежуточный между аристократией и высшими должностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может, – с другой. Смерть Пушкина открыла по крайней мере власти существование целой партии, главой которой он был. Если вспомнить, что Пушкин был замешан в событиях, предшествовавших 1825 году, то можно заключить, что такое предположение не лишено оснований…»
Если ослепло русское правительство, то пусть поймут в Голландии по крайней мере, что везде, где бы ни служил барон Геккерен, везде был и будет он верным слугой монархов, везде будет борцом против партий, которые колеблют троны и ниспровергают священные права аристократии.
Посланник снова задумался о непонятном и уже оскорбительном молчании русского монарха. В письме появились строки, могущие подсказать в случае нужды наилучшее для барона Геккерена решение королю Голландии:
«Его величество решит, должен ли я быть отозван или могу поменяться местами с одним из моих коллег… немедленное отозвание меня было бы громогласным неодобрением моему поведению».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: