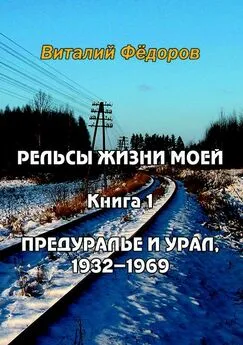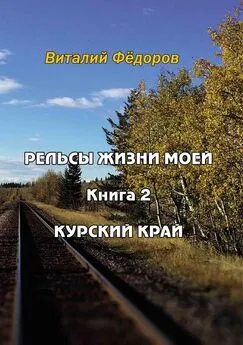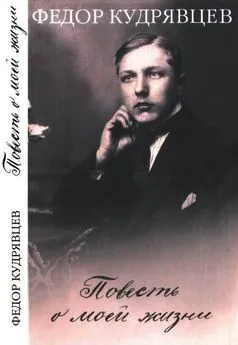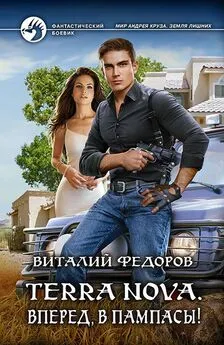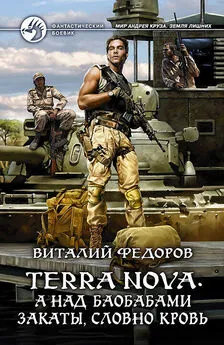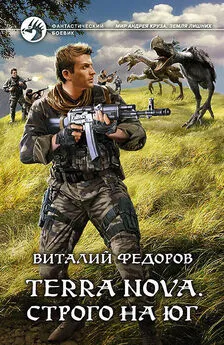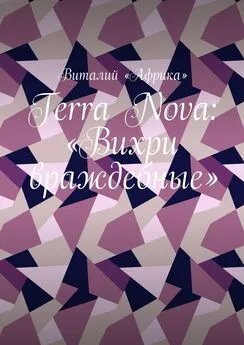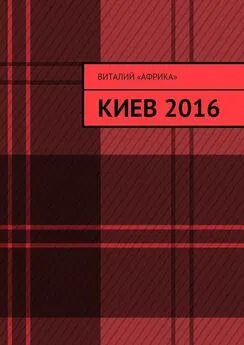Виталий Федоров - Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969
- Название:Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография Белый ветер
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Федоров - Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969 краткое содержание
В этой книге автор рассказывает нам историю своей жизни. Он рос босоногим мальчишкой в глухом удмуртском селе, но мечтал водить поезда.
Виталий Hиколаевич Фёдоров бережно сохранил в памяти и перенёс на бумагу общую атмосферу тридцатых-шестидесятых годов двадцатого века, уделяя особое внимание мелочам быта. Описал то, какое влияние на судьбы простых людей оказала война, как в их жизнь вмешивалась большая политика.
В книге использованы фотографии из личного архива автора.
© Автор Виталий Фёдоров
© Редактор Владимир Фёдоров, e-mail: fido6035@gmail.com
© Корректор Ольга Давыденко
Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вместо погибшего инструктором сначала назначили Молочкова, который был опытным и толковым машинистом. Но он не имел специального образования и особого желания работать инструктором. В результате «сосватали» меня. В трёх оставшихся сменах инструкторами работали наши выпускники Свердловской школы машинистов: Никитин, Южаков и Карпец.
На первой смене меня представили в качестве машиниста-инструктора. После того, как смену распустили по своим рабочим местам, Молочков меня напутствовал: «Твоё дело – техника, а по локомотивам людей распределяет начальник смены». Должностной инструкции никакой не было, но я сам подумал, что должность инструктора подразумевает не только необходимость следить за состоянием техники и по сигналу машинистов помогать устранять неисправности, но и проводить занятия с личным составом смены по правильному управлению локомотивом и тормозами, изучать электрические схемы и так далее.
Примерно за месяц я уже освоился в своей новой должности. Но с Ивановым у нас взаимопонимания так и не возникло. Он как будто выполнял свою работу, а я свою. Сблизиться никто из нас не стремился. Когда Иванов ушёл на месяц в отпуск, замены ему не дали, и мне пришлось выполнять обязанности и инструктора, и начальника смены. За месяц его отсутствия я даже ни разу не подумал, что кого-то на своём рабочем месте не хватает, решал без каких-либо затруднений текущие проблемы. Даже начальник службы тяги не вмешивался в мою работу, хотя, конечно, мы с ним о ней разговаривали.
Наша раскомандировка теперь была в черте города, в бывшем здании городской администрации. Там имелся большой зал со сценой и трибуной, за которой мне приходилось выступать. Один кабинет занимал начальник службы тяги, а в другом оборудовали учебный класс, где инструктора проводили занятия с личным составом смен.
Я приходил на работу за полчаса до начала смены, брал в кабинете начальника журнал, садился за стол, который стоял на сцене рядом с трибуной. За десять минут до начала смены узнавал у диспетчера места пребывания поездов и сообщал бригадирам. Пришедшие на работу подходили ко мне, назывались по фамилии и локомотиву, на котором работали. Большинство людей я, конечно, знал, но бывали и новички из других смен, пожелавшие в свой выходной по просьбе руководства поработать.
Однажды на раскомандировке я заметил, что один из машинистов – Григорьев – явно нетрезв. А ему, как и всем остальным, через десять-пятнадцать минут надо было отправляться на работу в ночную смену. Не знаю, как бы поступил Иванов (кстати, они с Григорьевым были приятелями), а я поступил по-своему.
– Григорьев, сегодня я не допускаю тебя до работы. Можешь идти домой, а утром я доложу начальнику цеха.
– Почему?
– Да потому что ты пьян. Ещё уедешь загорать на Южный рудник. На Северный не поедешь, там холодно.
Кто понял шутку, засмеялся. Григорьев спорить не стал. Мне удалось заменить его другим машинистом, у которого локомотив был на ремонте.
Оставшийся месяц мы проработали спокойно, больше никаких происшествий не было, план перевыполнили. Мне даже понравилось работать без начальника смены. А в октябре мне дали премию с записью в трудовой книжке: «За работу в III квартале премировать в сумме 20 руб.». К слову, на эту сумму можно было купить сто булок белого или сто пятьдесят – серого хлеба, или сто литров молока (у нас в семье ни один день без этих продуктов не обходился).
Глава 148. ДМИТРИЙ КОСЕНКО
Ещё весной 1967 года в наш цех поступили два новых тепловоза ТЭМ1 [56] ТЭМ1 – «Тепловоз с электрической передачей, маневровый, тип 1». Советский крупносерийный шестиосный маневровый тепловоз. Выпускался в 1958–1968 годах. (Прим. авт.)
. Поскольку ранее у нас таких локомотивов не было, пригласили из Свердловска двух машинистов. Одного звали Дмитрий Косенко, а другого – Николай Андреев. Им сразу выделили благоустроенные квартиры и поручили вести курсы машинистов тепловоза. На курсы записывали желающих машинистов электровозов и их помощников. Я несколько раз, больше ради любопытства, сходил на эти курсы. Но оказалось, преподаватели записали меня в журнал. Когда я уже работал инструктором и заходил к ним на курсы, Косенко и Андреев почему-то решили, что меня прислала администрация, дабы контролировать учебный процесс. Я развеял их подозрения.
На курсах я ближе познакомился с Дмитрием. К осени на тепловозах должны были работать по четыре машиниста, а пока днём работали лишь двое приглашённых. В начале сентября учёба закончилась. Большинство отучившихся получили «права» машинистов тепловоза. Правда, это были права «местного разлива», от Минстройматериалов. С этими документами нельзя было работать в системе других министерств и ведомств.
Однажды я зашёл к начальнику тяги, и он вручил мне свидетельство на право управления тепловозом.
– Вот, Косенко принёс, просил передать. Тебе всё равно придётся обкатывать технику и принимать практические экзамены у двух машинистов своей смены.
– Надо же. Я, конечно, не собирался становиться тепловозником. Но спасибо, может, пригодятся когда-нибудь.
7 ноября, в День Великой Октябрьской социалистической революции нас после демонстрации пригласила в гости чета Косенко. Жену Дмитрия мы уже знали, она работала в магазине хлебобулочных изделий в нашем доме, и мы видели её почти каждый день.
Косенко жили в районе тридцатой школы – в довольно спокойном месте, рядом с лесом. Когда мы пришли к ним, Дмитрий представил нам своих детей. Их у него оказалось аж четверо – сын и три дочери в возрасте от двадцати до десяти лет. Мы пришли вместе с Николкой (обычно мы всегда брали его с собой в гости, он вёл себя хорошо и никому не мешал).
Дмитрий был человеком общительным, компанейским. Среднего роста, коренаст, с тёмными вьющимися волосами. Круглое симпатичное улыбчивое лицо. У нас сохранилась фотография их дружной семьи. Кроме нас, Косенко пригласили своих соседей. А их соседом оказался мой однокашник по школе машинистов Виктор Кутаев. Это был лысенький мужчина, участник Великой Отечественной войны. Он был большим любителем поговорить, мог часами болтать обо всём на свете и ни о чём конкретно. Один шутник из нашей учебной группы, помнится, сказал ему: «Твоим языком только марки клеить на конверты на почте, и то будет больше пользы». Но Витя не оскорбился, он вообще был простецким мужиком.
Вот в такой компании мы и отмечали праздник. Дима был настоящим весельчаком: играл на гармошке плясовые и танцевальные мелодии, красиво пел. У Раи с ним получился хороший дуэт, но и остальные ему тоже подпевали. А младшая дочка Косенко, Лариса, показала нам сольный танец, который всем понравился. В остальное же время она играла с нашим Николкой. Старшие ребята Косенко – сын и дочь – ушли гулять, а средняя дочка, красавица Таня, оставалась с нами и помогала своей маме. Хозяйку звали Шурой. Она была женщина степенная, немногословная, чем разительно отличалась от своего мужа. У неё было овальное лицо, высокий лоб, тёмные завитые волосы. Фигура была стройной, рост – довольно высоким, одинаковым с мужем. Шура производила впечатление интеллигентной женщины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: