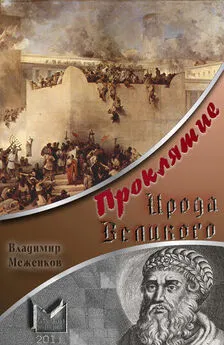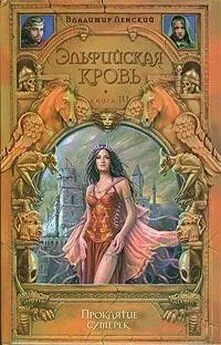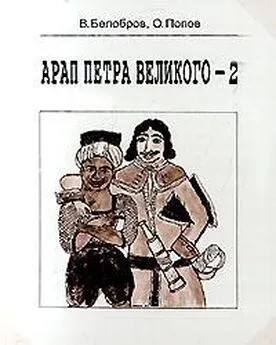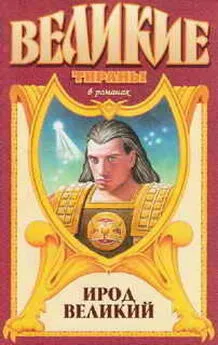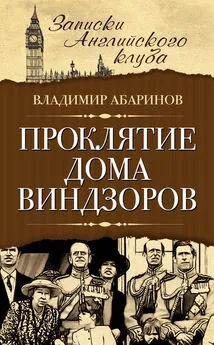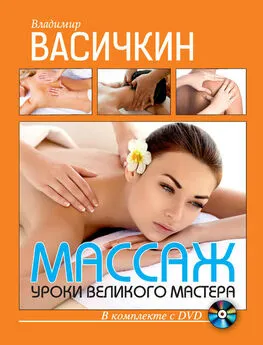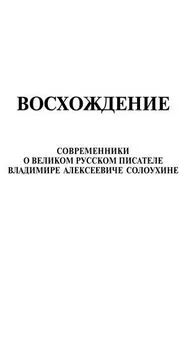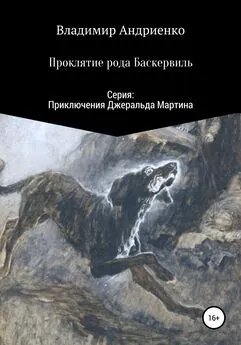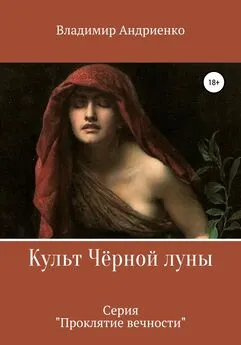Владимир Меженков - Проклятие Ирода Великого
- Название:Проклятие Ирода Великого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мульти Медиа
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Меженков - Проклятие Ирода Великого краткое содержание
Предисловие Последние дни великого царя были ужасны. Огонь, сжигавший внутренности, перемежался с холодом, и тогда Ирода трясла лихорадка. Кожа покрылась струпьями и нестерпимо чесалась. Чтобы унять зуд, он вонзал в тело ногти и рвал его кусками вместе с мясом. Геморроидальные шишки полопались и истекали кровью, вызывая непреходящее жжение в анальном отверстии. Ноги отекли и стали похожи на слоновьи. Живот вздулся, как у человека, страдающего водянкой. Ироду казалось, что он вот-вот лопнет. Из-за вздутого живота ему не видно было причинное место, но он знал: там образовалась гниющая язва, и в язве этой копошатся черви. Ко всем напастям, обрушившимся на царя, тело его источало зловоние, которое не могли перебить никакие мази и притирания, выписанные из далекой Индии. Зловоние это причиняло ему дополнительные страдания. Из-за болезни Ирод приказал перенести себя в парадный зал. Здесь обыкновенно проходили приемы иностранных послов, устраивались совещания с министрами и членами многочисленной царской семьи и давались торжественные обеды. Зал этот в прежние времена поражал воображение каждого, кто ступал под его высокие своды, сочетанием величественной роскоши с особым чувством меры и вкуса, которые были присущи Ироду. Ныне место трона заняла кровать из слоновой кости, инкрустированной золотом и драгоценными камнями. Эта единственная перемена в интерьере придала залу интимный вид, который побуждал собеседников Ирода становиться откровенными и признаваться в вещах, в которых в иной обстановке они не признались бы и под самой страшной пыткой. ----- В истории за Иродом закрепилась репутация злодея, на совести которого тысячи ни в чем неповинных младенцев, убитых при известии о рождении Христа. Между тем нет ни одного факта, подтверждающего достоверность этой легенды. Ирод был храбрым воином и царем-строителем. Время, в которое он жил, ознаменовалось активным поиском истинных ценностей жизни, в которых только и может раскрыться духовная сущность человека. Ирод верил в свое мессианское предназначение, как верил он и в то, что его созидательная деятельность послужит человечеству доказательством существования бессмертия. К концу жизни он, однако, понял, что человек стремится вовсе не к бессмертию, а к власти над себе подобными и материальному богатству. И тогда он проклял и человека, и человечество в целом.
Проклятие Ирода Великого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
289
Здесь мы вплотную подошли к рассмотрению темы, впервые разработанной в иудаизме – теме страдания , и затем переосмысленной и углубленной в христианской этике как тема со-страдания . У нас есть все основания полагать, что Ироду в полной мере выпало испить горькую чашу страдания и вплотную приблизиться к состраданию , хотя в силу объективных причин ему и не удалось на собственном опыте постичь, что это такое. Собственно, Ирод стал тем человеком, в котором муки страдания, вступившие в противоречие с его царскими обязанностями, ускорили возникновение в недрах иудаизма зачатков христианства. Поскольку наш дальнейший рассказ будет посвящен главным образом Ироду-человеку, в силу сложившихся к концу I в. до н. э. обстоятельств поставленного властвовать народом, который относился к нему как чужеземцу и врагу традиционного иудаизма (чего на самом деле не было и не могло быть по той простой причине, что по вероисповеданию Ирод был и до конца своих дней оставался иудеем, с той, правда, существенной оговоркой, что иудеем он был не ортодоксальным, а творческим, ищущим), имеет смысл здесь кратко остановиться на сути понимания страдания и сострадания, чтобы читателям стало более понятно дальнейшее повествование и нам не пришлось вновь и вновь возвращаться к разъяснению деталей этих базовых составляющих христианской этики.
Прежде всего: страдание как претерпевание боли, горя, печали, страха, тоски, тревоги и т. п. было неведомо античному мировоззрению. Все известные нам философы древности истолковывали страдание как рок, насылаемый по прихоти богов как на отдельного человека, так и на целые народы, а стоики рассматривали страдание как порочную страсть, подлежащую преодолению (точно такого же взгляда на природу страдания придерживался и Николай Дамасский, полагавший страдание пороком, который человек способен вытравить из себя одним усилием воли). Иное значение обретает страдание в иудаизме. Здесь страдание рассматривается не как прихоть Бога, а кара, насылаемая Им на человека за ослушание Его повелений (вспомним историю изгнания из рая Адама и Евы за то, что те, вопреки предостережению Бога, отведали плода от древа познания). В Новом Завете страдание обретает новое качество: искупительная жертва Христа придает страданию значение залога будущего спасения человека, а самое страдание перерастает в сострадание к страдающему на кресте Богу, из которого проистекает заповедь любви к ближнему. Отношение к страданию и состраданию в различные века было различным. Так, средневековая христианская мистика рассматривала страдание как знак любви Бога к человеку: страдаешь – значит любим Господом (в России такими «любимцами» часто становились юродивые). С точки зрения Канта страдание имеет ограниченную моральную ценность: как долг человечности его следует культивировать, но само по себе страдание несвободно, пассивно, слепо, неразумно, а потому неморально. Шопенгауэр объявлял страдание основанием морали, видя в нем непосредственное проникновение в чужое «Я», и обнаруживает в слиянии страдания и сострадания тождественность всего сущего. У Шпенглера страдание выступает как критерий и содержание подлинной духовности: в этом смысле он говорит о тоске и страхе, живущих в душе каждого ребенка и истинного художника. Кьеркегор высоко ставил страдание и критиковал простестантизм за то, что тот отменил средневековый аскетизм и тем самым «облегчил жизнь» людям. Ницше ценил страдание как средство к достижению величия души, но крайне негативно относился к состраданию, из-за чего отказал христианству в праве на существование. «Христианство нуждается в болезни, – писал он в «Антихристианине», – примерно так, как греки нуждались в преизбытке здоровья». И пояснял свою мысль: «Христианство называют религией сострадания. Сострадание противоположно аффектам тонуса, повышающим энергию жизненного чувства, – оно воздействует угнетающе. Сострадая, слабеешь. Сострадание во много крат увеличивает потери в силе, сострадания и без того дорого обходятся». И далее: «В целом сострадание парализует закон развития – закон селекции . Оно поддерживает жизнь в том, что созрело для гибели, оно борется с жизнью в пользу обездоленных и осужденных ею, а множество всевозможных уродств, в каких длит оно жизнь, придает мрачную двусмысленность самой жизни».
290
Лугальзагеси (XXIV в. до н. э.) – царь Шумера, политическими средствами объединил мелкие государства в бассейне Двуречья (будущей Месопотамии, территория нынешнего Ирака) с целью поддержания в порядке оросительную систему и увеличения сбора урожая.
291
«Законник Билаламы» – один из первых в истории сводов законодательных актов, составленный в XX в. до н. э.
292
Хаммурапи (XVIII в. до н. э.) – царь Вавилонии, составитель гражданских законов, состоящих из 282 параграфов, отличавшихся не только юридической точностью, но и литературными достоинствами.
293
Дракон (VII в. до н. э.) – афинянин, вошедший в историю как автор правовых норм, отличавшихся особой жестокостью. Так, за кражу зерна, овощей и т. д. Дракон требовал предавать воров смертной казни. В то же время кодификация законов, проведенная при его непосредственным участии, ограничила произвол судебных приговоров.
294
Аристотель действительно считал, что фаллос, игравший важную роль в культе греческой богини земледелия и плодородия Деметры, бога скотоводства Гермеса и, особенно, бога виноградарства и виноделия Диониса с его фаллическими шествиями, песнопениями и танцами, – стал первопричиной возникновения театра. После завоевания Иудеи Александром Македонским многие работы Аристотеля стали известны евреям и вызвали категорическое неприятие его взглядов. (Исключение составило отношение к древнегреческой философии в среде евреев, расселившихся в диаспорах. Так, в частности, иудейско-эллинистический философ Филон Александрийский, живший в Александрии, пытался соединить иудейскую религию с философией Аристотеля и даже разработал аллегорический метод толкования Торы. Это позволило ему сделать выводу, что хотя Бог и не доступен разумению человека, но вот Логос, как вечная божественная сила, явленная в мировом разуме, выступает «сыном Божьим» и в этом своем качестве является посредником между Богом и людьми. Учение о Логосе Филона Александрийского было воспринято первыми иудео-христианами, использовано апостолом Иоанном в его Евангелии [ «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», см. Иоан. 1:1], а самое понятие Логос-Слово окончательно в работах деятелей раннего христианства, известных как «отцы церкви», идентифицировалось с Христом).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: