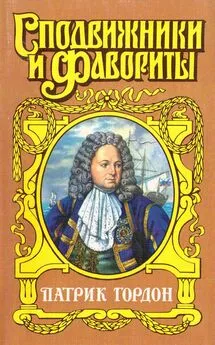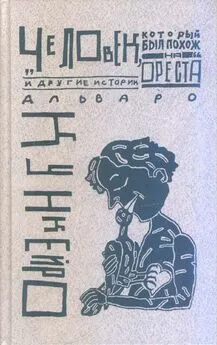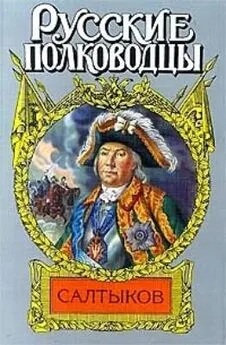Алексей Шишов - Четырех царей слуга
- Название:Четырех царей слуга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-17-014155-6, 5-271-04145-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Шишов - Четырех царей слуга краткое содержание
Новый роман известного писателя-историка Алексея Шишова рассказывает об одном из ближайших сподвижников Петра I генерале-шотландце Патрике Гордоне (1635-1699), в течение почти 40 лет честно и беспорочно служившем государству Российскому.
ыходец из Шотландии, дворянин, военный инженер Патрик Гордон, находившийся с 1661 года на русской службе, был одним из ближайших помощников Петра I в деле создания регулярной российской армии...
Четырех царей слуга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Встань, Ванька. Непотребно главнокомандующему в ногах бомбардира валяться. Надо тебе, ваша милость, и честь своей особе знать. Ты же царский спальник...
Однако взятием «Безымянного городка» Кожуховская война не закончилась. Военный совет по предложению бомбардира Петра Алексеева решил штурмовать и обоз вражеской «армии». Атаковать было решено 17-го числа после завтрака. Полевая баталия началась со схваток конных отрядов: всадники от души потчевали друг друга плетьми и руганью.
В итоге конница «польского короля» Бутурлина бежала куда глаза глядят — в Коломенское, за Москву-реку, в деревню Новинки, к Вишняковским и Петровским рощам. Пример к бегству показали конные роты «нахалов» и «налётов» — боярские холопы ратной доблестью на манёврах так и не отличились.
Затем на приступ неприятельского обоза пошли потешные и солдатские полки. В воздухе свистели бомбические глиняные горшки, под ногами людей рвались глиняные же гранаты. Они бились чем попало, кидали в друг друга комьями земли, поливали противника водой «из труб». Кое-где в руках стрельцов мелькали не тупые копья, а оглобли от телег. В воздухе стоял надрывный рокот барабанного боя, треск разрывов, людские крики и вопли раненых.
На сей раз бутырцам первыми ворваться во вражеский стан не удалось. Они оказались в полевом укреплении из обозных повозок только тогда, когда там уже развевалось чёрное знамя Преображенского полка. Стрельцы или разбегались, или с руганью сдавались в плен, бросая в грязь на землю пики с тупыми деревянными наконечниками. Дальше драться им вконец расхотелось. Да и не за что было.
Штурму стрелецкого обоза предшествовала его бомбардировка из пушек и мортир. Гордон потом скажет царю Петру Алексеевичу, что именно «огненное блистание» устрашило на сей раз неприятеля.
«Война» под деревней Кожухово закончилась полным поражением стрелецкого войска «генералиссимуса» Ивана Ивановича Бутурлина. Потешные полки, бутырцы и полк Франца Лефорта показали более высокую военную выучку, слаженность в действиях и большой настрой на победу. Да и к тому же царь Пётр Алексеевич высказывал явное нерасположение к стрелецким полкам, которые ещё совсем недавно стояли за правительницу Софью Алексеевну. К тому его подталкивали и служилые иноземцы, говоря:
— Стрельцы — это старое войско. Солдат должен сражаться в поле, а не работать на нём...
Стрельцы из числа московских о том знали. Но шептались на сей счёт между собой не часто. Знали, что если будет донос, то попадут на пытку в Разбойную избу. Там на дыбе после пробы огня, калёного железа и прочего «инструментария» царских палачей можно было подписать хоть какие «злодейские признания». И отдать Богу душу под топором палача на Лобном месте на Красной площади или перед приказной избой своего стрелецкого полка.
Поскольку порох был почти весь израсходован и подвозу его из опустевших подвалов Пушкарского двора уже не было, хлебные и винные запасы вконец истощились, поиздержалась денежная казна, царь решил окончить кожуховскую войну, которая, как уже виделось всем, изрядно затянулась. Такая новость в войсках «генералиссимусов» оказалась долгожданной.
Виновником из числа главных прекращения Кожуховской войны стал ближний боярин Лев Кириллович Нарышкин, брат царицы Натальи Кирилловны. Он приехал из Москвы с письмом от неё к сыну и со слезами умолял Петра I не «тянуть» больше денег из государственной казны:
— Государь ты мой, Пётр Алексеевич! Казна пуста. Кабацкие сборы все ушли на воинские потехи. Что пришёл из земли сибирской пушной ясак — тоже пошёл на порох. Жалованье служилым людишкам сегодня платить нечем стало...
Прочитав просительное письмо матери, царицы Натальи Кирилловны, увидев слёзы на лице любимого дяди Льва Кирилловича, Преображенский сержант-бомбардир Пётр Алексеев понял, что Кожуховской «воинской потехе» пришёл конец. Царскую казну высочайшими указами в сей день не наполнишь.
— Хорошо, ваша милость Лев Кириллович. Будь по-твоему.
— Премного благодарен, великий государь. Что передать о сем в Кремле царице?
— Передай маменьке, царице Наталье Кирилловне, что на днях возвращаюсь в Москву. Полки распущу по слободам.
Такое известие ближний боярин Нарышкин принял с поклоном, будучи несказанно рад. Сам государственник, он стремился сделать таковым и своего племянника. Среди прочего Льву Кирилловичу хотелось научить «Петрушу» обращаться с царской казной бережно, разумно. Брат царицы в поучениях любил приговаривать:
— Державная сила, ваше царское величество, в казне. Золотой и соболиной. Последней у европейских государей ни у кого нет. Только у русского царя есть пушное золото.
Юный Пётр частенько на такие слова главы рода Нарышкиных, рода своей любимой маменьки, отвечал:
— Хорошо, дядя, что за Камнем, в Сибири ясак соболями платят. А вот рудного золота и серебра у Москвы нет. У цесарцев монету покупаем для литья, чтобы из неё свои деньги чеканить.
На что умудрённый опытом ближний боярин, великий государственный муж Лев Кириллович отвечал:
— Мой государь, не вся ещё сибирская землица-то изведана. Придёт время — и она златые да серебряные руды откроет для царской казны. Обязательно придёт такое время...
Вызрело ещё обстоятельство, которое говорило за окончание воинских потех. В полках множество людей уже давно «маялись животом», а сотни страдали кровавым поносом. Фельдшеры сбивались с ног, не зная, как и чем лечить больных людей. Выход находили в том, что многих отправляли по домам «долечиваться».
Решение об окончании Кожуховской войны царь Пётр I принимал самостоятельно, не спрашивая совета у ближних людей. На последней «консилии» — военном совете — сказал:
— Пора возвращаться в Москву. Военной потехой Кожуховской мы довольны. А об остальном разуметь ещё должно...
«Генералиссимусы» прелюдно помирились между собой. При этом «польский король» Иван Иванович Бутурлин приносил победителю князю Фёдору Юрьевичу Ромодановскому «своё оправдание с пониклым лицом». Побеждённые — стрелецкие полковники — и прочие воеводы просили прощения на коленях. Сцена «подписания мира» завершилась пиршеством.
В своём «Дневнике» Патрик Гордон так описывает день 18 октября, который закончился пиром у князя-кесаря, означавшим конец кожуховской войне — «петровской потехе»:
«Было празднество у генералиссимуса, причём мы угощались за счёт гостей (то есть московского купечества) и были отпущены около 11 часов. После переправы через реку были с обоих сторон пути выстроены пешие и конные полки. Когда перед ними проезжал генералиссимус, он был приветствован обычным образом и залпами из ружей. После этого полки были распущены по квартирам».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: