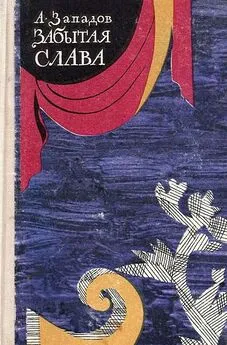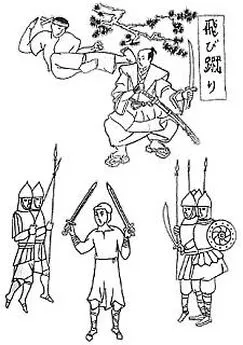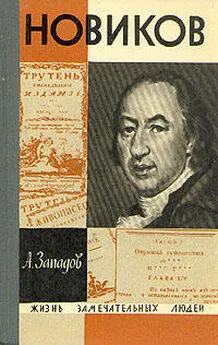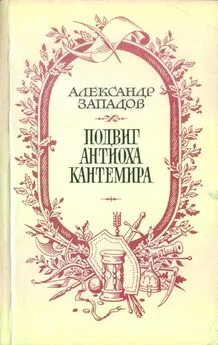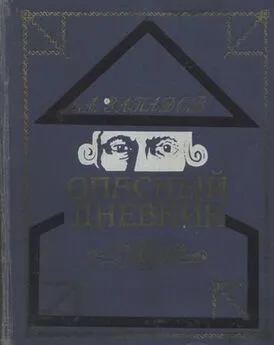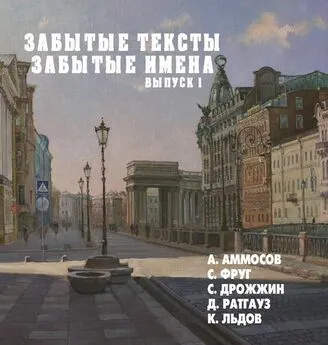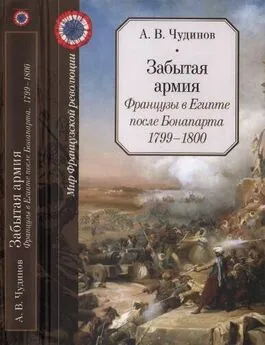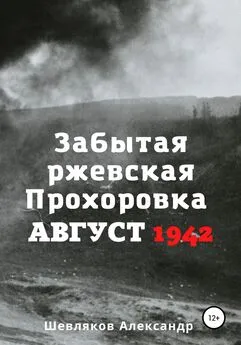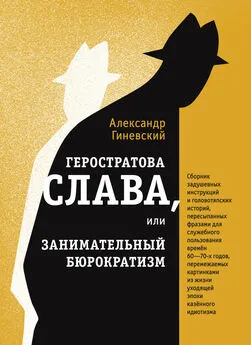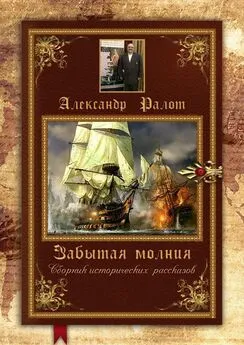Александр Западов - Забытая слава
- Название:Забытая слава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1968
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Западов - Забытая слава краткое содержание
Александр Западов — профессор Московского университета, писатель, автор книг «Державин», «Отец русской поэзии», «Крылов», «Русская журналистика XVIII века», «Новиков» и других.
В повести «Забытая слава» рассказывается о трудной судьбе Александра Сумарокова — талантливого драматурга и поэта XVIII века, одного из первых русских интеллигентов. Его горячее стремление через литературу и театр влиять на дворянство, напоминать ему о долге перед отечеством, улучшать нравы, бороться с неправосудием и взятками вызывало враждебность вельмож и монархов.
Жизненный путь Сумарокова представлен автором на фоне исторических событий середины XVIII века. Перед читателем проходят фигуры правительницы Анны Леопольдовны и двух цариц — Елизаветы и Екатерины II.
В книге показаны главные пути развития общественной и художественной мысли в России XVIII века, изображены друзья и недруги Сумарокова — Ломоносов, Тредиаковский, Панины, Шувалов, Алексей Разумовский, Сиверс.
Повесть написана занимательно; факты, приводимые в ней, исторически достоверны.
Забытая слава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Что ж, Михайло Васильевич, неужто вы забыли нападки господина Сумарокова?!
— Спорить с Александром Петровичем почитаю излишним, — медленно сказал Ломоносов. — Да и вина его тут не первостатейная. Он лишь напечатал то, что сочинил человек, соединивший свое грубое незнание предмета с подлою злостью.
— Это вы о господине Тредиаковском? — спросил Шувалов, незаметно для Ломоносова подмигивая гостям.
— Вам все ведомо, ваше превосходительство, — ответил Ломоносов, — а я и в самом деле забыл эти поклепы, ибо трудам и старанию моему вреда им принести не удалось.
Сумароков выступил из толпы. Краска сбежала со щек, пальцы его дрожали.
— Напрасно Михайло Васильевич хочет видеть подлую злость там, где разговор шел об искусстве. Живопись малеванием превосходнее картин, из разноцветных стекол составленных. Так многие славные авторы полагают, и я им не противоречу. А тот, кто это понимает, но по хитрости и пронырству за счет короны строит стеклянные заводы и становится владельцем двухсот душ крестьян, тот есть человек презрительный.
Ломоносов иронически пожал плечами.
— Высочайшую милость дурно толковать изволите, ваше благородие, — ответил он. — Я к пользе и славе российской завел фабрику изобретенных мной разноцветных стекол, за мной Опольская мыза и крестьяне укреплены по указу. На фабрике же делаю бисер, понизки, стеклярус, чего еще в России не бывало, а привозят из-за моря великое количество на многие тысячи. И я государственной экономии способствую.
— Никому ваши фабрики и заводы не надобны! — запальчиво сказал Сумароков. — Заводы полезны там, где мало земли и много крестьян. Лионские шелковые ткани Франции приносят не меньше богатств, чем земледелие. Россия же на него должна рассчитывать, имея пространные поля и много крестьян. Что же у нас творится, Иван Иванович! — отнесся он к Шувалову. — Даже начальник мой гофмаршал Сиверс заделался фабрикантом. В Красном селе варит бумагу и добивается, чтобы Сенат закрыл фабрики купца Ольхина, которые подрыв его ремеслу и торговле творят. Это придворный человек! А простому дворянину пришло садиться в торговые ряды либо выходить с ножом на большую дорогу.
— Заводы России необходимо нужны, — возразил Ломоносов. — Одним хлебом страна прожить не может. Не станем же мы за железной рудой в Швецию, за углем в Англию посылать! Должно самим стараться о размножении ремесленных дел и художеств.
Спор начинал принимать слишком серьезный характер, и Шувалов постарался дать ему другое направление.
— Полно, господа! — обратился он к поэтам. — Скажите, Александр Петрович, верно ли, что вам героическая поэма Михайлы Васильевича «Петр Великий» не по сердцу пришлась и что вы на нее притчу написали?
— Верно, Иван Иванович, но в притче моей никто не назван, и если в обезьяне-стихотворце господину Ломоносову себя узнать было угодно, ему виднее.
Гости засмеялись. Сумароков, ободренный вниманием, прочитал:
Пришла Кастальских вод напиться обезьяна,
Которые она Кастильскими звала.
И мыслила, сих вод напившися допьяна,
Что вместо Греции в Ишпании была,
И стала петь, Гомера подражая,
Величество своей души изображая.
Ломоносов досадливо поморщился. Сколько шума из-за глупой опечатки! В оде на взятие Хотина вместо «Кастальская роса», — а Кастальский источник близ Парнаса был посвящен Аполлону и музам, — в двух изданиях его сочинений появилось «Кастильская», то есть испанская. Виноват наборщик, недосмотрел он сам, держа корректуру, — но ведь это же мелочь! А дела Петра I впрямь достойны героической песни, и смеяться тут нечего.
— Хватит балагурить, Александр Петрович! — почти дружески сказал Ломоносов. — Остроумие ваше всем известно и горячность тоже, но и я теми свойствами владею, да только ради праздника ссориться нам не стоит.
— Ссориться не нужно, — вмешался Шувалов, — а поговорить есть о чем. Стихи Гомера — всем образец, и насмешки над его подражателями не могут быть одобрены. Но Александр Петрович такие стихи зовет надутыми, пухлыми. Что ж надобно? Не то ли, что в Москве в университетском журнале печатают:
Как стал я знать взор твой,
С тех пор мой дух рвет страсть;
С тех пор весь сгиб сон мой.
Стал знать с тех пор я власть.
Гав-гав-гав… Разве это поэзия? Образованный читатель с негодованием отвергнет экзерсисы господина Ржевского. Стопосложению надо учиться у Михайлы Васильевича Ломоносова. «Ее великолепной славой Вселенной преисполнен слух…» Музыка!
— Музыка, не спорю, — подхватил Сумароков. — Господина Ломоносова слава состоит в одах, а прочие стихотворные сочинения и посредственного пиита в нем не показывают. Да если взять и оды — в них, кроме красот, многие отвратительные пороки сыщутся. Вы, — он ткнул рукою в сторону Ломоносова, — пишете: «Возлюбленная тишина, Блаженство сел, градов ограда». А ведь «градов ограда» сказать не можно. Град оттого и свое имя получил, что огражден. Тишина ему оградой не бывает. Для этого нужны войско и оружие, а не тишина. В другой строфе писано: «Летит корма меж водных недр». Разве ж одна только корма летит? А весь корабль не движется?! «И токмо шествовать желали». «Токмо» — слово приказное, а не стихотворное, такое ж, как «якобы», «имеется», «понеже». Поэт не подьячий.
— Вы все сказали, Александр Петрович? — спросил Ломоносов.
— Помилуйте, я еще и не начинал говорить! У меня все строфы ваши разобраны. Есть среди них прекраснейшие, прекрасные, хорошие, изрядные, но не меньше числом требуют полного исправления. Вы ведь родом не москвитянин и потому ввели в некоторых словах провинциальное произношение. Впрочем, — спохватился Сумароков, — не подумайте, Иван Иванович, что я о происхождении господина Ломоносова в ругательство ему вспоминаю. Нас не благородство, но музы на Парнас возводят, ибо благородство — последнее качество нашего достоинства, и много о нем думают только те, которые ничего другого за душой не имеют.
— Вы меня весьма обяжете, если пришлете список с разметкою моих строф, — ответил Ломоносов, — но пристойнее будет, если разговор наш продолжим как-нибудь после. Не стоит он того, чтобы собирать стольких слушателей.
Сумароков оглянулся. Они стояли в тесном кружке гостей, с ухмылками следивших за словесной перепалкой. Шувалов сиял, довольный полученным развлечением…
— Пришлю, пришлю, — пробормотал Сумароков.
А ныне простите, Иван Иванович, поспешу к актерам, вечером спектакль, надобно многое исправить.
Раздвигая толпу, он побежал к дверям залы.
Новогодняя размолвка поэтов была неприятна Шувалову, хоть он и признавался себе, что умышленно вызвал словесную баталию. Хозяин желал посмешить гостей, а вышла драматическая сцена, и Сумароков развоевался совсем не забавно. Теперь третью неделю сидят стихотворцы по домам, во дворец глаз не кажут, и о них ничего не слышно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: