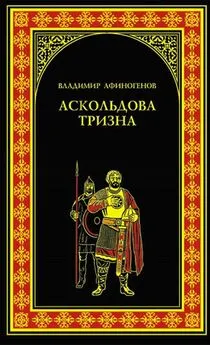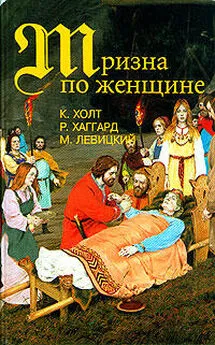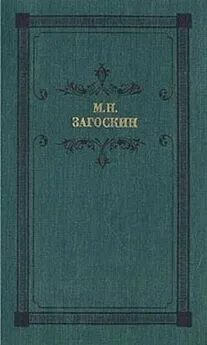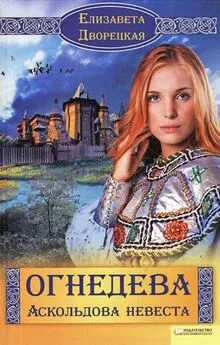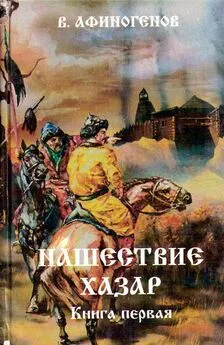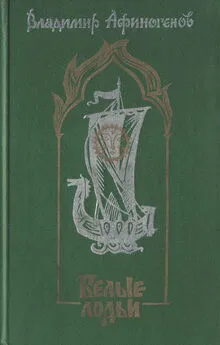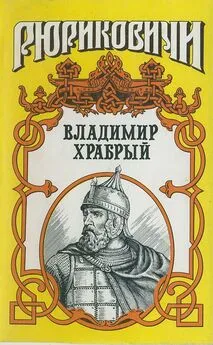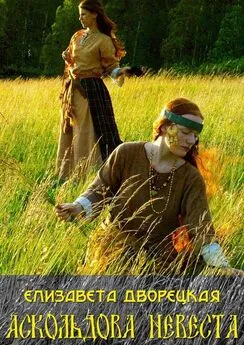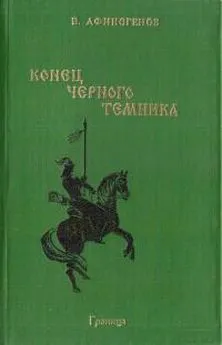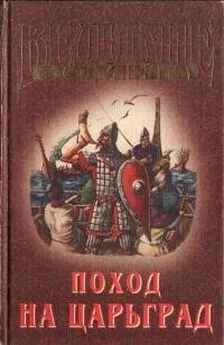Владимир Афиногенов - Аскольдова тризна
- Название:Аскольдова тризна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДРОФА
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Афиногенов - Аскольдова тризна краткое содержание
Русь 9 века не была единым государством. На севере вокруг Нево-озера, Ильменя и Ладоги обосновались варяжские русы, а их столица на реке Волхов - Новогород - быстро превратилась в богатое торжище. Но где богатство, там и зависть, а где зависть, там предательство. И вот уже младший брат князя Рюрика, Водим Храбрый, поднимает мятеж в союзе с недовольными волхвами.
А на юге, на берегах Днепра, раскинулась Полянская земля, богатая зерном и тучными стадами. Ее правители, братья-князья Аскольд и Дир, объявили небольшой городок Киев столицей. Но и здесь не все ладно. Хоть и есть общий враг — хазары, но нет мира между братьями. Гибнет Аскольд от руки Дира, но и ему не уйти от расплаты!..
Аскольдова тризна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все уселись за длинные столы, составленные возле костров. Слуги подали каждому по бараньей кости с мясом. Дир соседствовал с княгиней киевской. Он был предупреждён Предславой, что та хочет с ним поговорить… После чарки-другой, когда скурры и прочий весёлый люд начали блеять козлами, выделывать разные фигуры на снегу, дудеть в дудки и пищать в пищалки, а сергачи водить меж гостей обжорливых медведей, княгинюшка наклонилась к свойственнику, прошептала:
— Князь, мне нужно с тобой увидеться. Много не пей, Предслава придёт ввечеру на твою половину терема и покажет, куда тебе идти…
Дир быстро взглянул на брата, тот рассказывал что-то Светозару, не обращая ни на кого внимания. «Что ей от меня нужно?» — подумал младший князь. Знал, что старшая жена Аскольда — женщина мудрёная, говорили, она — ведунья: мать детей, а выглядит, как молодушка…
Дир посмотрел в глубокие, бездонные, тёмные, как ночь глаза свояченицы, почувствовал, как мороз прошёлся по коже. Не боялся головой лёд колоть, в темноте проплыть под ним, а тут сделалось не по себе от её взгляда…
«И впрямь — чаровница!»
Ещё по молодости князья киевские затеяли поход на Кавказ и повстречали воинов, которые, стоя на конях, на полном скаку, рубились сразу с двух рук саблями, которые мелькали, как белые молнии… Отчаянные воины назывались царкасами, царскими людьми… Они населяли не только Север Кавказа, породнившись с аланами, но и верховья Меотийского озера — моря Азовского, берега Дона, беря в жены гречанок, а также красивых танаиток и россиянок…
Позднее они выделились в народность казаков — вольницу, но которая была не река без берегов, а мощная вода Дона, разумно скованная жёстким самоуправлением. Народность эта, вобрав в себя потом свободолюбивых беглых и истинное православие, дошла, не видоизменяясь, и до наших дней. Думаю, что казаки ещё заявят о себе с полным правом и силой, ибо их светлые дни грядут…
В этом кавказском походе киевские князья, столкнувшись с царкасами, чуть не лишились войска, если б Аскольда не полюбила царская дочь Сфандра [58] Примечательно, что это имя наряду с такими как Млава, Предслава, Морена, Анея, Еленя тоже считается древнерусским.
… Аскольд привёз новую жену в Киев, сделав её старшей, а первую, несмотря на то, что она родила ему сына, отправил обратно в Булгарию.
Худо бы пришлось тогда киевлянам, если бы Сфандра вовремя не замолвила слово за них перед своим отцом… По десять человек в ряд царкасы прорубались сквозь плотные ряды воинов архонтов, разворачивались и проламывались снова, невредимыми ускакивая в степь. Подобные «проходы» помнят ещё древние персы царя Дария, повстречавшиеся с этим народом [59] В начале XIII века, во время нашествия Чингисхана два его передовых тумена (20 тысяч всадников) в междуречье Волги и Дона напоролись на казаков. В жестоком бою два тумена были почти вырублены, и Чингисхан приказал покинуть это проклятое место. А спустя полтора века донские казаки, как явствует из «Гребенской летописи, или Повествования об образе чудотворный Пресвятые Владычицы и Приснодевы Марии», сражались под стягами московского князя Дмитрия Иоанновича на Куликовом Поле.
. Историки не преувеличивают, рассказывая, что тогда многие персы посходили с ума. Скорее сие объяснялось свойством царкасов владеть, говоря современным языком, гипнозом, или по-старому Спасом, в основе которого стояло Слово-заговор…
Казачий Спас — бескрайняя степь и бездонный колодец Духа. Воин, овладевший им, мог быть незамеченным в траве чистого поля, его не брали ни копье, ни стрела, ни острый меч… Он воспитывался Небом. Мать выводила в степь ночью трёхлетнего сына и говорила ему:
— Звезды — глаза твоих пращуров. Они неусыпно глядят, как ты будешь защищать свой очаг, свой Род.
Подрастая, юноша не ведал страха смерти, а став настоящим царкасом, знал, что смерть в бою — счастье, ибо тогда он взмывал на небо живою звездою…
Дир поднялся из-за стола на берегу Лыбеди и вышел. Лучистый взгляд Сфандры он не мог без волнения выносить и удалился, не позвав за собой даже Еруслана. Полуобернувшись к архонту, княгиня слегка улыбнулась…
Дир вскочил на коня, гикнул, взмахнул плёткой и вихрем взлетел на холм, а оттуда спустился к дубовым крепостным стенам города. Завидев на верховом алый корзно, на высокой башне страж протрубил в рог, предупреждая караульных на воротах, чтобы те вовремя смогли открыть их.
Какая-то тревога охватила Дира, но сам не знал, откуда она и отчего… Главное, появилась раньше, ещё до того, как Сфандра сказала ему, что хочет с ним увидеться… Может, причиной душевного состояния явилась поездка на могильный курган жены? Но тогда ведь там, наоборот, у него на сердце стало легко и ясно…
Дир прошёл в пустую гридницу, в которой были разбросаны по лавкам щиты, а не висели на стенах, как положено. Подозвал старшого, попенял за беспорядок и предупредил, чтобы вечером никто из рынд не сопровождал его, ни тайно, ни явно…
Лёг на своей половине, попробовал заснуть, но тревога возвернулась, — вспомнилась жена: значит, всё-таки посещение её могилы было следствием тревожного волнения… А Сфандра?… С ней нужно держать ухо востро… Дир смолоду благоговел перед ней, но побаивался… Хотя они по рождению одногодки, Аскольд старше их на шесть лет. Ему в праздник Карачуна — двадцать пятого дня студёна, десятого месяца года [60] То есть 25 декабря. В старой русской жизни декабрь (студень) был десятым месяцем, а с XV века четвертым. С 1700 года его считают двенадцатым. А праздник Карачуна в дальнейшем стал называться Колядками.
, исполнится ровно сорок лет.
Нехороший день, хоть и праздничный, ибо тех, кто родился в этот день, называют карачунами или крачунами. Есть такое выражение — карачун дать, то есть решительно погибнуть… Карачун, видимо, слово тоже тюркского происхождения, — окачуриться, в темноте оказаться… И так далее…
А праздник?… Ну что ж — к этому дню пекли из пшеничного теста домашних животных: коров, быков, овец, кур, гусей, уток. Выставлялись они на окна для показа проходящим, на столе с утра красовались для семейства и уже вечером рассылались в подарок родным… А для трапезы готовили в одном горшке из пшена кашу, а в другом — варёные в меду яблоки, груши и сливы, и оба горшка ставили на покути, в переднем углу… Позднее, когда стали колядовать, возили в санях Коляду — девицу, одетую сверх платья в белую рубашку, видя в ней связь с солнцестоянием зимним и летним, отыскивая в слове Коло символ солнечного оборота и коловратности судьбы человеческой…
Зима ходит с сего дня в медвежьей шкуре, стучится по крышам и будит баб ночью топить печи. А если она по полю идёт, то за ней вереницами метели, а если по лесу, то сыплет из рукава иней, а на реке под следом своим куёт воду на три аршина. Студёное время! Но до дня рождения Аскольда ещё далеко…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: