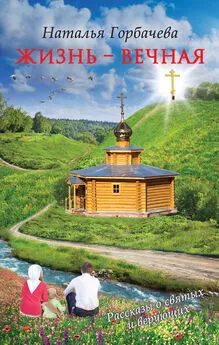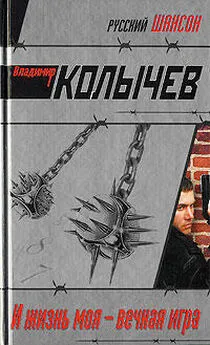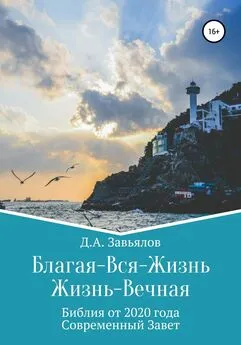Рышард Лисковацкий - Жизнь вечная
- Название:Жизнь вечная
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-05-002213-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рышард Лисковацкий - Жизнь вечная краткое содержание
Представленные в сборнике произведения интересны сюжетной заостренностью и глубиной проникновения в психологию активных борцов с фашизмом.
Жизнь вечная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда он вернулся в комнату, позвякивая стаканами и ложечками, отец лежал на кушетке, спрятав лицо в ладони. — Ты спишь? — Нет, как же можно спать в такую минуту. Я еще на тебя не нагляделся, ты еще мне ни слова не сказал, что у нас происходит… — Много чего происходит… — буркнул Роман. — Много чего — и у нас, и у всех остальных… — Сначала о нас… — Отец внезапно оживился. Его левая рука, лежавшая на столе, начала подрагивать, и он тут же прикрыл ее, прижал правой. — Когда ты виделся с Виктором? Макс спрятал бумагу для типографии? — Ты измучен, болен, у нас будет еще много времени, чтобы поговорить о делах… — Роман говорил спокойно, не отрывая глаз от лица отца, который после недолгого возбуждения снова вел себя так, будто внутри у него, кроме безграничной усталости, ничего не было. — Много времени? — прошептал он и отрицательно покачал головой. — Не надо меня щадить, Ромек, я знаю свой срок. У меня отбиты почки, я страшно мучаюсь, когда мочусь, и мочусь я кровью. Не пойму даже, где я взял силы, чтобы решиться на побег и на такое долгое путешествие по безлюдным местам. Но эти силы были последними, больше от меня никакой пользы не будет. — Он склонился над столом, и седеющие волосы упали ему на лоб. Бледное, без кровинки лицо, все в морщинах. Больное и безнадежно грустное. Так выглядят люди, которые абсолютно уверены, что никакие лекарства их не спасут, подумал Роман, и им снова овладела жалость. Ему захотелось сказать отцу что-нибудь такое, что его хоть ненадолго оживит. — Пришлось нам повозиться с твоей типографией, опять переезжали. Первый мартовский номер выйдет с порядочным опозданием, но зато место мы для нее нашли отличное… (С т в о е й, в таком определении мало преувеличения, ты почти по кусочкам перевозил ее из Варшавы, даже машинистов к этому подключил, они везли, спрятав в уголь, то, что не помещалось в чемоданах, — на это ушло все неожиданно свалившееся и печальное наследство: в октябре ты похоронил брата, а уже в середине декабря новая типография вступила в строй; у брата были картины, серебро, красивая мебель, ты все продал, вернулся без гроша, но с известием, что типография будет, и она была, и есть…) — Вы перевезли типографию после моего ареста? — поднял голову отец. — Решили, что я могу расколоться? — Каждый может… — ответил Роман прямо и почувствовал внезапное облегчение, — что мы знаем о нашей твердости, пока нас не начнут поджаривать на огне, пока не начнут ломать кости. — Отец потянулся за стаканом, обхватил его осторожно, как будто все еще чувствовал боль в искалеченных, покрытых шрамами пальцах. Он пригубил чай, облизал губы, и длилось все это очень долго, а может, Роману только так казалось. — Ты помнишь нашу первую операцию — немецкий эшелон с отпускниками? — наконец заговорил отец. — Пять разбитых вагонов, тридцать с лишним убитых, и еще двое суток они не могли привести в порядок взорванные пути… — Помню, первый экзамен не забывается… — ответил Роман, и снова наступило молчание. Он легко мог его нарушить, но предпочитал, чтобы это сделал отец. Был даже уверен, что так надо, потому что ведь это отец вернулся из далекого путешествия, из которого лишь немногим удается вернуться. Счастливое возвращение. Притворяется? Как долго можно притворяться? И долго ли сможет притворяться он? — Твердость, твердость, твердость… — голос отца был на удивление бесстрастным. Таким голосом говорят о погоде, о пустой книжонке, об оторвавшейся пуговице. Час назад он кричал почти в истерике, показывая сыну свое тело, иссеченное плетьми и палками. Теперь он устало говорил о каком-то, о чьем-то там биологическом страхе. Уходил от слов, которые навязчиво лезли к нему. — Твердость? Это не человек боится боли, это его кожа кричит от боли, это его нервы рвутся от страха, это его кровь стынет от ужаса… — Отец, говори со мной просто, как раньше. Ты ведь умеешь называть вещи своими именами. Жалко сейчас времени на поэзию и философию. Поспешим, где уверенность, что эта ночь — не последняя для нас с тобой.
Виктор говорил, что иметь такого отца — это иметь все, Виктор говорил, у нас здесь сегодня Роман, сын «Лесничего», он пришел, я рекомендую его в партию, а они ему, что, если это сын «Лесничего», зачем им рекомендация, «Лесничий» — это лучшая рекомендация, тебя, отец, тогда не было на этом собрании в Быхаве, ты следил, чтобы твоя типография в целости и сохранности добралась аж за Хелм, тебя не было, и я чувствовал себя как-то взрослее, я сказал, что знаю, за что борюсь, знаю, что за свободу, но хочу знать больше, до тысяча девятьсот тридцать девятого в Польше тоже была свобода, а отец мой три года просидел в тюрьме в Равиче; прочитал я пару дней назад газетенку «В огне борьбы», там много о свободе пишут, они пишут, будет свобода, пишут, прогоним немцев и коммунистов, и украшают эти слова польским гербом — большущим орлом на первой странице. Так я сказал, и сразу разгорелся горячий спор, который окончился только после полуночи, и спали мы в овине, на сене, а «Осколок», подавая мне ломоть хлеба, товарищ, это ваша порция, сказал, товарищ, товарищ, мысленно повторил я за ним, потому что никто так ко мне еще не обращался.
Отец попросил сигарету. От первой же затяжки у него запершило в горле, но он кашлял и не переставал курить. Говорил и не переставал кашлять. — После операции я оставил пистолет у «Холодного», мне казалось, что я могу возвращаться, меня не знали ни в Горайе, ни в Радечнице, а документы у меня были надежные. Даже когда меня уже схватили и втолкнули в машину, я все еще верил, что как-нибудь выкручусь. Еще больше я в это поверил, когда автомобиль въехал в Замостье и проехал мимо костела, не останавливаясь у дома Черского. Сейчас везде можно получить, что тебе причитается, но, когда проезжаешь мимо гестапо и едешь дальше, трудно не быть оптимистом. Отвезли меня в Ротонду. Я успел прочитать, что там было написано на белой доске перед входом. Временный лагерь для интернированных. Дальше еще что-то, длинная надпись, но я ухватился за одно это слово: временный. Посредине газон, забор из колючей проволоки, с полсотни заключенных, подгоняемых палками на беговой дорожке, и несколько человек, стоящих у стены с поднятыми руками, как перед расстрелом. Там восемнадцать больших камер, и считать не понадобилось, потому что на каждой — огромный черный номер. Прежде, чем двери камеры отворились, меня пинками погнали на комиссию. Гестаповцы сидели за обычным кухонным столом и прямо на улице, может быть, поэтому все показалось мне не таким опасным. Начался тщательный обыск. Нормально. А теперь слушай, потому что настоящее начало только сейчас. Вытащили у меня из кармана разные мелочи, вытащили носовой платок, а из него вылетел патрон от моего «вальтера». Запутался там как-то, подлец, я ведь перед уходом от «Холодного» проверил карманы. Невезение? Легкомыслие? Случайность? Один патрон, но для них я уже стал кем-то, кто заслуживает особого внимания. Меня не заставляли ни бегать, ни отжиматься, эта беговая дорожка в Ротонде для обычных узников. В тот же день мне устроили первый допрос в гестапо. Не буду тебе пересказывать, у тебя ведь есть воображение… — до сих пор он говорил довольно спокойно, и Роман начал уже думать, что так оно до конца и будет, но отец, видимо, остановился на том самом страшном месте, где перед ним открывалась пропасть. Может быть, он осознал это именно теперь, и его охватил ужас. — Хватит. Чего ты еще ждешь? Самое главное, что я не позволил себя сломить, они не сломили меня, слышишь? — Он смотрел на Романа с гневным упреком, хотя Роман все время молчал и внимательно его слушал. — Хватит. Нет смысла рассказывать дальше, потому что ты мне все равно не веришь. Ты только прикинулся обрадованным, когда увидел меня в дверях… — Я был поражен и взволнован. Тебе не пришло в голову, что твой стук давно перестал быть паролем? — Понимаю, теперь в эту дверь стучат по-другому, потому что меня схватили… — Не только тебя. Еще «Гураля», еще «Холодного», и «Осколок» тоже арестован. Тебя потрясло это известие? Чего же ты замолчал? — Потому что это страшно… — простонал он и снова потянулся за сигаретой, — страшно… — повторил он, и наступило долгое молчание, которое Роман понял по-своему. Понял, что без последней атаки эта ночь не могла закончиться. Но его гнев смягчался под действием сочувствия и жалости. Дать отцу шанс, дать ему последний шанс… — застучало у него в мозгу, заглушая мысль о лобовой атаке, и из-за этого на секунду вернувшегося бессилия у него вырвался опасный вопрос: — Однако ты собирался рассказать мне о своем побеге… — А ты мне поверишь? — холодно спросил отец и положил руки на стол, как будто бы хотел, чтобы Роман еще раз посмотрел на его изуродованные пальцы. — Да ты подумай, ты только подумай. Если бы я тебе не верил все это время, я бы уже давно ликвидировал нашу старую явку. А я даже тайник не очистил. Показать? Бери, читай, вот последние радиосводки, вот моя статья, вот сведения из района, которые принесли связные, вот мой пистолет. Настоящая пороховая бочка, а я на этой бочке спокойно сидел. И плевать мне, что другие говорят или думают, потому что важно то, что думаю я. Ты не мог нас засыпать. Так я думаю. — Отец заслонил глаза ладонью. Руки у него снова начали дрожать. — Шесть допросов… — сказал он так тихо, что Роману, чтобы что-нибудь услышать, пришлось наклониться к нему. — Каждый раз я молил о смерти, но они были начеку. Однажды даже врач ко мне явился, сделал укол, чтобы я дотянул до следующего допроса. Они уже знали, что мои документы поддельные, а значит, и я был для них поддельный, и только патрон был такой, как надо. После шестого допроса они выбросили меня, как тряпку, в какую-то пустую комнату. Может, думали, что это уже конец, что я сразу подохну, поэтому и оставили меня одного. А я все никак не мог подохнуть. Поднял голову и тогда подумал о побеге… — Он на секунду остановился и начал рассматривать Романа, словно только сейчас увидел его перед собой. — Ты веришь в чудесные спасения? — Я верю в счастливый случай, верю, что иногда везенье нарушает всю логику событий… — Но только иногда, только иногда… — усмехнулся отец, — пить мне очень хочется, у тебя еще есть этот чудесный настоящий чай? — Роман кивнул и вышел на кухню. Он снял с уже остывающей печки конфорки, подбросил несколько сухих поленьев и начал раздувать огонь. И тогда раздался грохот. Первая мысль была, что кто-то выстрелил в коридоре. Он схватился за карман, и в ту же минуту вспомнил, что пистолет остался на столе. Он бросился в комнату. Отец, скорчившись, лежал возле стула, из головы сочилась кровь. В коридоре на лестнице послышались тяжелые шаги, кто-то начал ломиться в дверь. Соседи? А может, шпик, до сих пор прятавшийся в воротах? Роман сгреб в карман записки, рукописи, радиосводки, но пистолета у отца не вырвал. Возможно, он хотел, чтобы полиция, которая придет за телом отца, так его и нашла. С пистолетом в судорожно сжатой руке. Он открыл окно, сполз по водосточной трубе в кусты крыжовника. Ночь была темная, эта страшная ночь помогала ему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: