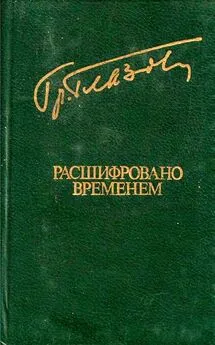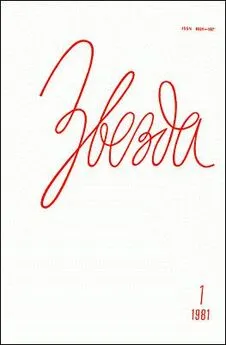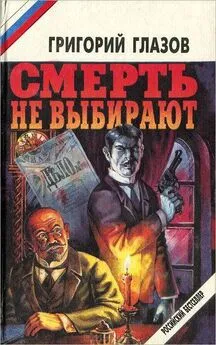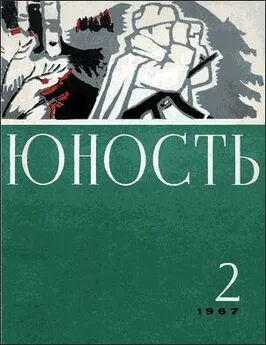Григорий Глазов - Расшифровано временем
- Название:Расшифровано временем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Глазов - Расшифровано временем краткое содержание
Расшифровано временем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И все-таки сходство между двумя повестями — в другом: и у Гурилева и у Белова происходит проверка добротных «мирных» свойств характера в экстремальной, как любят нынче говорить, обстановке. Да еще в том, что оба оказываются в неожиданной для них роли: рядовой стал командиром, бухгалтеру пришлось стать бойцом.
Но в новой повести писатель уже не удовлетворился тем, как явлены свойства характера, а заинтересовался и тем, как они сложились, сформировались, как всю жизнь накапливалась энергия для вспышки, озарившей ту ночь. Поступок — это и вершина и следствие накопленных нравственных ценностей. Поэтому так уместны оказались воспоминания героя, в которых не нуждалась предыдущая повесть, настроенная на балладную волну.
Три круга бытия проходит Гурилев в повести.
Первый — самый обширный, в нем герой раскрывает свою верность совести и долгу или, скажем лучше, совестному долгу, чтобы подчеркнуть их слитность, а не противопоставление, которое нередко привлекало своей драматичностью других прозаиков, писавших о войне.
Перед нами сугубо штатский, вырванный из привычного уклада человека в бурном прифронтовом солдатском море. И вот эта «штатскость» начинает испытываться — пока еще не на излом, а, так сказать, на прогиб. Достойно, хотя и не с таким самообладанием, как старший лейтенант Вельтман или сержант Ерхов, ведет он себя во время бомбежки поезда. Спокойствие, собранность, решительность предопределили его согласие поехать в дальний, только что освобожденный сельсовет.
Все эти добротные качества проявляются у него естественно, свободно, прочно. В предсмертные свои минуты во время допроса у командира прорывающейся немецкой группы Гурилев, заново оглядев свою прошлую жизнь, осознает как самое для себя важное: «Никогда не задумывался, что живет по внутреннему закону: не ожидание награды должно побуждать к добру».
И может быть, именно в силу логики этой идеи погибает сам Гурилев: счастливый исход был бы для него своеобразным вознаграждением за стойкость: выстоял — и за это был спасен. В повести он погибает, но как и другие, отважно павшие, остается жить навечно — жить в памяти народа. Памяти, в которой Никто не забыт и ничто не забыто.
Наверное, здесь уместно одно отступление. В романе Д. Гранина «Картина» есть эпизод, когда председатель горисполкома Лосев встречает церковного служку — «ересиарха», разжалованного из священников за еретическое предложение поменять рай и ад местами: только истинный праведник станет творить благое дело, зная, что не райская жизнь, а адовы мучения ждут его за это. И, в конечном счете, Лосев, решившийся на благое дело — сохранить памятник культуры, вынужден вместо ранее предрешенного повышения по службе отправиться в «ад», прорабом в какую-то строительную организацию.
Так что идея, выношенная Гурилевым как итог своей жизни, тревожит многих писателей. Больше того, она и служит, вероятно, той чертой, которая отделяет от христианской морали коллективистскую: добро совершается ради других людей.
И тут мы. естественно вступаем во второй круг повести: герой проходит испытание на человечность. Круги эти, разумеется, не отделены один от другого, просто акценты расставлены более интенсивно.
Все поведение Гурилева при приеме от крестьян фуража говорит о его человечности, деликатности, доброжелательности. А его сочувствие Ольге Лукиничне, председателю колхоза, которая старается сберечь при сдаче фуража хоть немного семенного картофеля! Вспомним, что сходный мотив был центральным в повести В. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы» при аналогичной же расстановке персонажей: выметающий все подчистую уполномоченный, рачительный председатель колхоза и сострадательный «наблюдатель» Только у Тендрякова это было сутью всей повести, а здесь одним из мотивов. И скорее всего, служило для автора продолжением, еще одним поворотом той мысли, которая пульсировала в рассказе «Конь»: перед нами снова две правды, рожденные жестокой логикой войны. Но здесь автор и его герой уже более открыто встают на сторону человечности.
К проявлениям человечности Гурилева относится и его сердечное понимание любви Вельтмана и Нины, и его сострадание драме Лизы, забеременевшей от румынского солдата, который вскоре был казнен за попытку перейти к партизанам.
И снова — кто более прав по отношению к Лизе? Мать ли, движимая ненавистью и брезгливостью ко всему, что хоть как-то связано с оккупантами; безразлично, сошлась ли ее дочь по любви, из-за куска хлеба или поддавшись женской слабости? Или Володя, который готов принять беременную Лизу не потому, что безволен, не способен совладать со своей любовью, а потому что уважает чужую любовь, сочувствует чужой беде?
Так опять ставит нас Глазов перед двумя правдами, и опять он все-таки на стороне милосердия, сострадания.
Но крупнее всего испытание на человечность проявилось в отношениях и спорах — открытых и потаенных — Гурилева с Анциферовым, уполномоченным по заготовке фуража. Тот уповает на твердую руку, жесткую волю, беззастенчивый нажим. А Гурилев «срывается» в человечность, расположение к людям, доверие к ним.
И очень интересно разделил Глазов. цель и средства — проблему, столь волновавшую нашу прозу в 60-е — 70-е годы да и его самого еще с «Расшифровано временем». Гурилев поначалу чувствует себя подавленным «неуязвимой правотой» аргументов Анциферова, облаченных в громкие расхожие формулы: «Вы отчитываетесь перед бухгалтерией, я перед страной»; «Справедливо одно — собрать корма. И как можно больше — вот наша цель». И только спустя какое-то время смог он понять и высказать: «По-моему, вы размахиваете средствами, как топором, направо — налево. Так можно и саму- цель позабыть».
Чувство коллективизма слагается из многих качеств и свойств — и из стремления делать добро, не ожидая награды, и из способности сострадать, способности чувствовать чужую боль, радоваться чужой радости.
И здесь мы вступаем в третий круг, круг подвига — в ту ночь, что вобрала всю жизнь; ослепительно вспыхнули свойства и качества, которые долгие годы казались обычными и малозаметными.
Об этом писал Глазов и в «Перед долгой дорогой»: война ежедневно испытывала человеческие возможности радиста Саши Ивицкого, «порой казалось, они уже истрачены до конца, а все же чем-то всегда пополнялись из неведомых глубин, бывших в нем самом, но о существовании которых он как бы и не знал».
Почему Гурилев остался охранять собранные корма, хотя не обязан был это делать? Почему не окликнул Лизу, пришедшую за горючим? Почему с таким достоинством вел себя на допросе? Потому что жили в нем чувство долга и ответственности, понимание Лизиной ненависти к немцам, память о погибшем на фронте сыне Олеге и его размышления о добре, которому суждено убить зло, — вся многосложность душевных качеств. И как укрепляют его в эти недолгие часы воспоминания о прожитой жизни — о любви к жене, о дружбе с соседом-сапожником Погосяном, о беседах с польскими беженцами, о том, наконец, как он скрыл от жены и младшего сына извещение о смерти Олега!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: