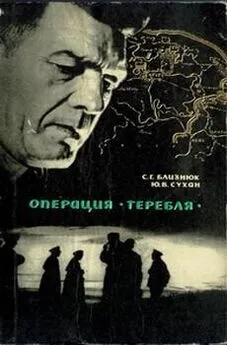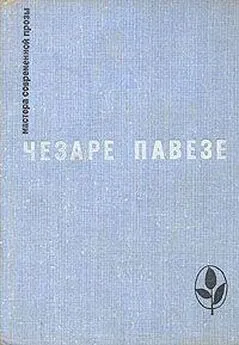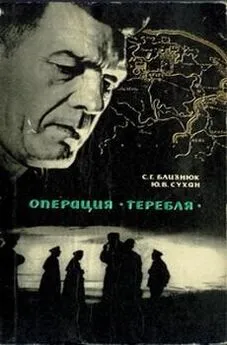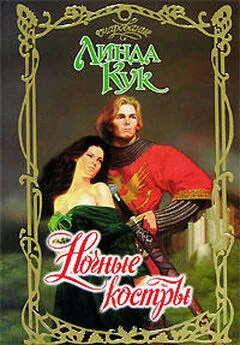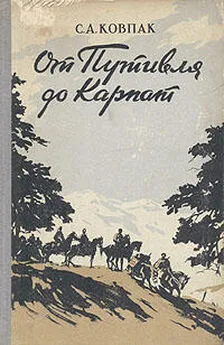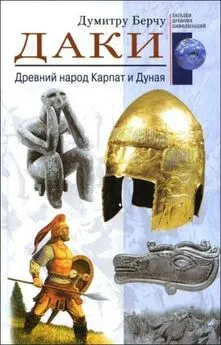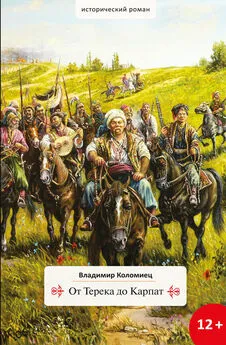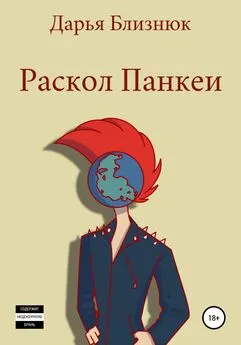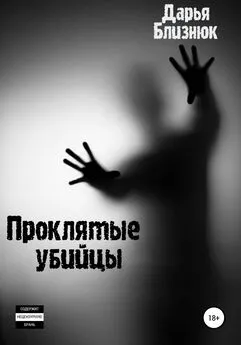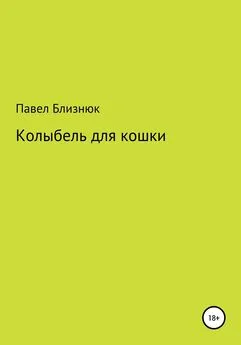Семен Близнюк - Костры ночных Карпат
- Название:Костры ночных Карпат
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Карпати
- Год:1978
- Город:Ужгород
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Близнюк - Костры ночных Карпат краткое содержание
Это было в Карпатах, за месяц до начала войны. Майской ночью берегом Теребли недалеко от посёлка Буштины шли трое — в рыбацких сапогах, с удочками, сетью. Но не речка позвала их в ночь. Остановились на лугу. Здесь решили принять советский самолёт с радистом на борту.
В книге — очерки о военно-разведывательных группах, созданных в Закарпатье в предгрозовые годы, о людях, ставших разведчиками не по призванию, а по велению сердца.
Здесь нет вымышленных лиц и событий. Истории, о которых пойдёт речь, богаче вымысла.
Костры ночных Карпат - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Справа по ходу поезда во зворе-ущелье теперь едва заметишь несколько сельских хат. Нет даже почерневшей от времени церквушки. Это — село Канора, которое слилось с районным центром. Что ж, старое село исчезает. Уже забывается даже его имя. Но события, о которых пойдёт речь, возвратили нас в старую Канору, где родилась тайна синих Бескид…
Очерк «Операция „Теребля"» уже был написан, когда помогавшие нам в поисках товарищи вышли на след ещё одной горсточки смельчаков, действовавших в Карпатах. Так стало известно о военно-разведывательной группе в синих Бескидах, которую возглавлял Данило. И уж вовсе неожиданным было наше знакомство с этим руководителем: оказалось, знакомились заново. Ибо один из нас, писавший в первую послевоенную осень очерк о бывшем графском замке, превращённом в рабочую здравницу, и не подозревал, что, беседуя с директором этого дома отдыха Фомой Ивановичем Россохой — в прошлом Канорским священником, — разговаривает с человеком, ставшим по зову сердца бойцом невидимого фронта.
Сразу вспомнилась эта, такая тёплая, первая мирная осень. И оживлённое шоссе, ведущее в горы. И красные стрельчатые башни, выглядывавшие из-за роскошной шапки парка. И первые новые обитатели дворца, немного робевшие от торжественной красоты аллей. Вот что писалось в опубликованной тогда первой корреспонденции о встрече с новыми хозяевами замка:
« …Удирая, граф забыл на письменном столе альбом. В нём много фотографий, даже чересчур много. Дюри Шенборн, последний отпрыск плутократического рода военного времени, был тщеславен и в этой славе многословен: любил разыгрывать либерала и спортсмена. Вот он сидит в роскошной машине явно спортивного типа, разговаривая с „народом“. Этот снимок сделан в Каноре. Крестьяне стоят поодаль, в дырявых гунях [19], сжимая в руках потрёпанные шляпы и принуждённо улыбаясь.
Замок считался охотничьим. Магнаты приезжали сюда позабавиться, пострелять серн и медведей. Однажды сутки отдыхал Риббентроп. Их снимки — тоже в альбоме, на первых страницах. Веселились на особый манер. На одной из фотографий — ковёр, расстеленный на поляне. Пьяные бессмысленные рожи эсэсовцев, пирующих под сенью старой липы. Графиня в весьма легкомысленном платье, стоя на коленях, протягивает рюмку высокопоставленному гостю. Чина его не разобрать — он развалился на ковре в подтяжках. На заднем плане — клетка. Изнутри прижалось к прутьям лицо человека.
— Там, сзади, медведь, — объяснил директор Фома Иванович, — А это пастух графа: его в наказание посадили в клетку.»
И вот спустя четверть века мы встретились с Россохой опять. Уже в самом Ужгороде, где он проживает до сих пор. В библиотеке редакции нашли старую газетную подшивку. Она была тяжёлой — бумаги не хватало, и первое время газета печаталась на трофейной обёрточной бумаге — красноватого цвета, плотных вощёных рулонах. Сетка морщин на лице Россохи легонько разгладилась:
— Да, я так говорил, а вы так писали.
Вспомнил про снимок с клеткой:
— Я в кадр не попал…
— Но вы даже не упоминали, что были где-то рядом. Фома Иванович спокойно улыбнулся:
Не только про это — про многое другое тогда не говорил. Как видите, всему своё время.
И мы узнали подробности удивительной судьбы бывшего священника, снова и снова убедившись в том, что скромность бойцов невидимого фронта — органическое свойство их характера, что героизм — естественное движение души человека, отдающего себя всего, без остатка, служению людям, то высокое вдохновенное состояние, которое даже смиренного служителя церкви заставило бороться с фашистами.
Воспоминая разведчика Данило дополнили нам сведения, справки и документы из архивов, записи бесед с живыми свидетелями событий тех дней…
Сонная одурь придавила монастырскую крышу. И приземистые сливы вокруг монастыря. И самих монахов, склонившихся над верстаками. День только начинался, а работу архимандрит Матфей задал такую, чтобы до вечера никто спины не разогнул: строить сарай… настилать полы… пилить дрова.
Любил согнутые спины настоятель монастыря в Изе. Впрочем, и сам, выпив красного винца, выходил не раз во двор, хватал топор — и разлетались в щепки самые треклятые буковые колоды. Намахавшись, усаживался на дрова. Послушник снова подносил хмельного. Настоятель блаженно тянул терпко-сладкое питьё и шёл почивать в сонную.
Трудно было понять: то ли так силён, то ли просто гневен настоятель. И когда он вызвал в просторную приёмную монаха Феодосия, ченцы переглянулись: гляди, рассол заставит таскать, а Феодосий — он упрям, как-никак самый старший из молодых монахов.
Но Россоха вышел от архимандрита какой-то взволнованный. Возвратившись к братьям, рассеянно взглянул на свой верстак и зашагал через глухой двор. Окликнули: хоть и боязливые, а всё же любопытные были юные ченцы. Он ответил:
— Учиться посылают в богословскую школу. В Югославию…
—
Из воспоминаний Ф. И. Россохи:
«Когда ты на склоне лет и, словно с вершины, озираешь прожитую жизнь, — видится она как на ладони, и закоулки все в ней открываются, и повороты разные, — осознаешь, что тобою двигало в детстве или юности. Было у меня время в фашистских застенках перебирать свою жизнь по листочкам, и вот теперь яснее могу и себе, и другим ответить, как я, сын бедняцкий да и внук бедняцкий, пошёл служить в монахи, затем стал священником. Нижний Быстрый на Хустщине, где я родился в 1903 году, — из всех убогих сел был, пожалуй, самым что ни на есть „Заплатовым, Дырявиным, Неёловым, Неурожайкой тож“. Видится мне мой дедусь Иван, согнутый старик, который все бондарил, делал деревянные коновки, цебрики и другую крестьянскую утварь — мастерил из дерева. В лес уже не мог ходить. А моего отца тоже Иваном звали, он был лесоруб, только видел я его все меньше и меньше — он ходил по заработкам. Мы с дедом Иваном спали на соломе, рядышком с коровой — в красивых белых пятнах была та корова, и звали её Красей. Я помогал деду делать бочки, держал ему обручи и, конечно, тоже мечтал стать в жизни бондарем. Но когда однажды отец принёс домой календарь и показал в заголовке буквы, мне не надо было больше объяснять. Отец с дедом тут поговорили и решили отдать меня в школу. Не сразу я понял, почему дед сидел зимой босым — сапоги ведь продали, чтобы заплатить учителю Пукану: „певцоучитель“ был страшный пьяница и все пропивал. Учил, конечно, больше молитвы читать…
Ещё один листочек вспомнился мне в лагере. На нём дата — 1913 год. Пришёл я из школы, а в хате отец с матерью сидят и ничего не делают — руки на столе. Вижу, у печи — мадьярский жандарм, а на столе перед отцом и матерью — книги из России. Одна из них, помню, называлась «Киевопечерский патерик»— по нынешним временам, если рассудить, ну, что в ней могло быть крамольного, бунтарского, противного австро-венгерскому режиму? Разве что стремление наших закарпатцев к единокровным братьям за Карпатами настолько пугало ревностных блюстителей монархического строя, что даже в появлении подобных изданий в забитых, тёмных семьях верховинцев усматривали политическое преступление…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: