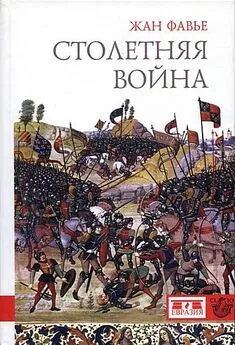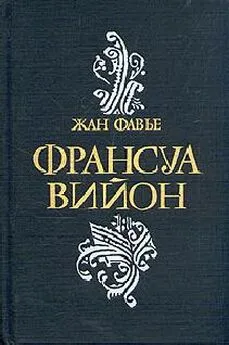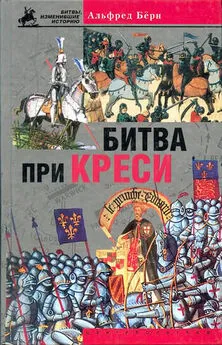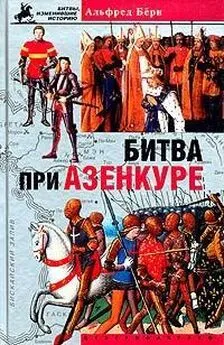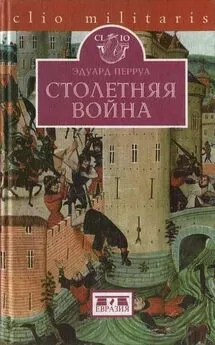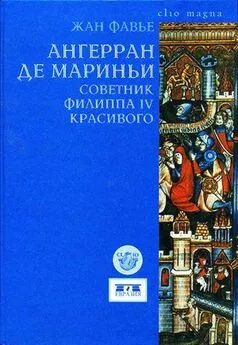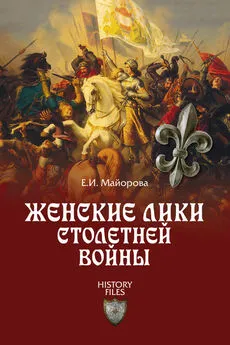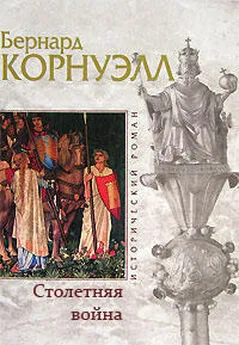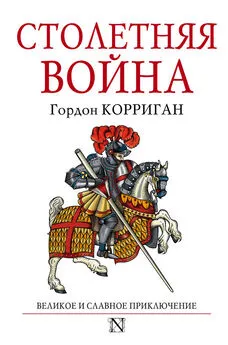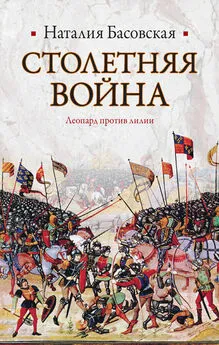Жан Фавье - Столетняя война
- Название:Столетняя война
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91852-004-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Фавье - Столетняя война краткое содержание
Перед читателем, пожалуй, самая лучшая книга о Столетней войне — крупномасштабном военном столкновении двух монархий эпохи зрелого средневековья — Франции и Англии. Столетняя война — необычайно сложное и многослойное событие: начавшись с притязаний на французский трон двух родственников последнего короля Франции, Филиппа Валуа и Эдуарда Плантагенета, Столетняя война постепенно переродилась в национальное столкновение двух держав, двух народов, не случайно именно с этой войной связывают зарождение национального самосознания. После первых и необъяснимых, как тогда казалось, поражений французского рыцарства на полях битв при Креси и Пуатье, изменилась тактика и стратегия войны: рыцарские доблести уступали место желанию добиться конечного результата — победы над врагом любой ценой. На последнем этапе Столетней войны во Франции возникла первая постоянная армия. Жан Фавье детально излагает развитие военных действий, дает красочные и яркие описания крупных и мелких баталий, исследует роль эволюции вооружения.
Война оказала огромное влияние не только на область военного искусства и не ограничилась полями сражений. Жану Фавье удалось блистательно показать, как дворяне, духовенство, горожане и крестьяне воспринимали эту войну, чувствовали её приближение, какую роль играли в ней. Автор вписал историю войны в широкое полотно политической, экономической, социальной и культурной жизни средневековой Европы. Помимо прочего, некоторые главы книги посвящены жизни и смерти людей в эту эпоху, эпидемии Черной чумы, кризису сеньориального уклада, реформе Церкви и т. д.
Столетняя война - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вместо личной службы людей, собранных со всего королевства, необученных, недисциплинированных и вооруженных как попало, король Франции в основном предпочитал финансовую помощь. За счет налогов он платил профессиональным бойцам. Но выбор был не так прост, как может показаться на первый взгляд. Переговоры велись в каждом регионе, в каждом городе, и реакция податных разнилась в зависимости от того, в какой степени они были заинтересованы в исходе войны. Те, кто знал, что им в любом случае придется самим защищаться с оружием в руках, были мало склонны заранее откупаться от службы. Такими предусмотрительными людьми в 1337 г. проявили себя бюргеры Парижа:
Жители Парижа в настоящем году предоставят в наше войско, каковое мы намерены собрать с Божьей помощью, четыреста всадников на протяжении шести месяцев, если мы самолично явимся в означенное войско, или на протяжении четырех месяцев, если мы туда не явимся и будет война…
Условлено, что все деньги, каковые будут взиматься в качестве оных податей или налогов, будут взяты и получены собственноручно жителями оного города и уплачены ими собственноручно и от их имени либо их уполномоченными в нашу казну в Париже.
И ежели случится надобность, чтобы большинство жителей оного города вступило в оное войско через посредство арьербана или иначе, или будут заключены мир или перемирие, или они вернутся, желаем, дабы с тех пор, как настанет один из сих случаев, означенные жители были свободны по отношению к нам от оплаты за оную конницу.
Сам король колебался. Его выбор зависел от времени, от места, от обстоятельств. От бойцов, поскольку легче было заменить орду ремесленников и крестьян, шумящих, «как на ярмарке», как писал Филипп де Мезьер, чем найти хорошую кавалерию вместо рыцарей из королевства. Простонародье часто заставляли откупаться от службы, чтобы можно было платить «сержантам», но знать чаще всего созывали лично.
Королевство от этого только выигрывало. Сезон сражений был также сезоном жатвы и сбора винограда. В городе, где сезоны были выражены не так явно, нельзя было оставить всю общину без пекарей, жестянщиков, каменщиков.
Зато знать всегда искала сражений, чтобы прославиться. Смысл существования и воспитание влекли авторов «Ста баллад» к войне, к подвигам, к доблести.
Если витязь найдется какой.
Чтоб учтив был и именит,
И на бой он тебя позовет —
Соглашайся, достойное дело.
Так ты славу приобретешь.
Сражаться без причин, лишь бы сражаться. Этих самых дворян, посвященных в рыцари, или оруженосцев, более или менее уверенных, что их посвятят в рыцари, король сохранит в качестве ядра контрактной армии, даже когда первые случаи панического бегства коммунальной пехоты — в частности, при Креси — убедят командиров королевской армии, что одно только присутствие ополчения на поле боя не гарантирует нового Бувина.
Итак, знать шла на войну, потому что это был ее долг и ее ремесло. Рыцарь приводил с собой людей из своего фьефа — сначала в количестве, пропорциональном размеру фьефа, затем в количестве, указанном в договоре о найме на военную службу (retenue) и пропорциональном обещанной оплате. Это был тот же самый рыцарь, который служил потому, что был обязан и что король созвал всю знать королевства, и которому платили за то, чтобы он оставался в строю сверх положенного срока или привел больше людей, чем положено. Вооруженный вассал превращался в капитана.
Когда опасность была очевидной, легче было менять условия и созывать людей. Налог означал переговоры, уступки, от которых король не мог отказаться, не рискуя нарваться на ответный отказ. Это значило: посредники, местные собрания, более или менее представительные нотабли, наконец, штаты, генеральные или местные. А штаты предпочитали налог, потому что он давал им возможность торговаться, тем самым формируя зачатки политического контроля. Быстро ли, медленно ли собирались воины, но они не торговались. Когда опасность была такова, чтобы отбить у них всякую охоту спорить, король имел все возможности собрать вооруженный арьербан.
Некоторые быстро обнаружили, что война позволяет заработать на жизнь. Это были воины под началом капитана, который платил им подённо. Это были капитаны, которым платил нанявший их принц пропорционально боевому составу, периодически проверяемому. Так, королевские офицеры — маршалы, командир арбалетчиков — выводили войска на «смотры» (montres), на основе которых составлялся протокол, и с ним сверялись при выплате жалований.
«Грамоты de retenue», которые были договорами о найме, часто подробно оговаривали ожидаемую службу и ее финансовые последствия. Так, фиксировали длительность службы, а иногда и ее содержание, суммы жалованья на каждого воина, условия выплаты аванса, который назывался «pret». Ведь воин был не заинтересован в неопределенной выплате после службы, а принц был не заинтересован в неопределенной службе после выплаты. Точно так же при составлении договора фиксировали стоимость «ремонтировки» (restor), которая будет выплачена капитану за коней, вышедших из строя или убитых во время службы, и договаривались о компенсациях за подвиги и добытые трофеи.
И в этом Англия и Франция были удивительно похожи. Может быть, в англо-гасконской армии было чуть больше профессионалов, поскольку Эдуард III едва ли мог ссылаться на непосредственную опасность, требующую пересечь Ла-Манш. Может быть, английские «indentures» были конкретней. Главное, они заключались на более долгий сроки: французам во Франции было легче набирать новых солдат, чем англичанам на вражеской территории заменять выбывших бойцов.
Знать, лишенная возможностей обогатиться, какие некогда давали неисчислимые войны между баронами, горожане без ремесла, крестьяне без земли — вот из кого в основном состояли те «компании» (compagnies) и «руты» (routes), которые воевали за тех, кто предлагал лучшую цену. Но не будем воображать себе сборище социальных маргиналов, знатных бастардов, бандитов, по которым плачет веревка. Армия не была ни свалкой отбросов общества, ни средством продвинуться для храбрецов, рассчитывавших лишь на свои руки.
Исключительно судьба Бертрана Дюгеклена, босяка из благородных, ставшего коннетаблем, поразила современников своей необычностью. Но не стоит преувеличивать, поскольку в Дюгеклене не было ничего от сельского шалопая, а его семья была одной из самых уважаемых. Что же касается знатных бастардов, из которых, как часто писали, формировались армии Столетней войны, точнейшие подсчеты показывают, что они составляли двадцатую-тридцатую часть от численности конных воинов. Было бы неверным обобщать пример Гаскони, где довольно быстро укрепилось представление, что в армии бастард из хорошего рода найдет себе место, какого ему не предоставит родовой фьеф.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: