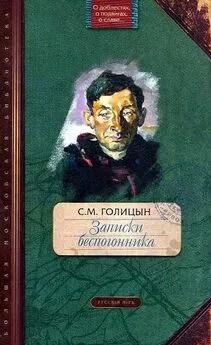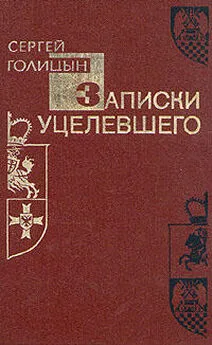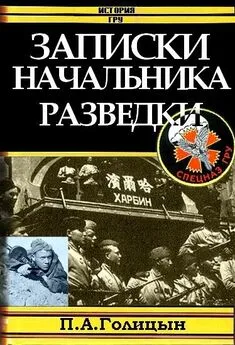Сергей Голицын - Записки беспогонника
- Название:Записки беспогонника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русскiй Мiръ
- Год:2010
- ISBN:978-5-89577-123-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Голицын - Записки беспогонника краткое содержание
Писатель, князь Сергей Голицын (1909–1989) хорошо известен замечательными произведениями для детей, а его книга «Сказание о Русской земле» многократно переиздавалась и входит в школьную программу. Предлагаемые читателю «Записки беспогонника», последнее творение Сергея Михайловича, — книга о Великой Отечественной войне. Автор, военный топограф, прошел огненными тропами от Коврова до поверженного рейхстага. Написана искренне, великолепным русским языком, с любовью к друзьям и сослуживцам. Широкий кругозор, наблюдательность, талант рассказчика обеспечат мемуарам, на наш взгляд, самое достойное место в отечественной литературе «о доблестях, о подвигах, о славе».
Записки беспогонника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уже начало темнеть, я отложил свой отъезд до утра и пошел ночевать в штаб нашего ВСО.
Ночь стояла ясная, звездная. Однако было светло. Я поглядел на ту сторону Днепра и ужаснулся.
Вся западная половина неба горела заревом. Там за Днепром начиналась Белоруссия. Днем с нашего берега хорошо различались многочисленные деревни, синели дали правобережья километров на 20. А сейчас той ноябрьской ночью все дали горели ярким огнем, огненными полосами в несколько рядов, и ближе, и дальше, и еще дальше; в бинокль различались горящие снопы, взлетающие кверху.
Наши солдаты и офицеры вышли из блиндажей, из уцелевших хат. Все молча стояли группами и смотрели туда — на запад.
И думал я: «Сейчас там женщины воют, кричат, ползают перед поджигателями на коленях, детей заставляют ползать, обнимать их ноги…»
14 месяцев спустя, когда войска 2-го Белорусского фронта ринулись в Восточную Пруссию, я видел, как наши солдаты поджигали опустевшие немецкие коттеджи, как прикладами разбивали стекла, зеркала, мебель, как выкидывали из окон книги и распоротые перины, как рубили яблоневые и вишневые сады… И мне вспомнилась тогда та звездная ноябрьская ночь, когда немцы без боя начали отступать с берегов Днепра и поджигали все белорусские деревни подряд… И месть наших солдат мне стала понятна. Счастье для немцев, что сами они успели тогда удрать из Восточной Пруссии.
Рано утром я уехал из Любеча на попутной машине и действительно за 15 километров в одной деревне увидел бродивших по улице солдат ставшей мне родной 2-й роты.
Я соскочил с машины и, узнав, в какой хате остановился капитан Пылаев, поспешил туда.
За столом, покрытым вышитой скатертью, сидели: Пылаев, старшина Середа, парторг Ястреб и командир взвода Виктор Эйранов. Передними стояла бутылка самогону, была разложена разная закуска. Ольга Семеновна хлопотала у русской печки.
Мужчины были красные, разомлевшие, веселые; они очень мне обрадовались, с чувством пожали руки, усадили, налили стаканчик.
Я начал было говорить, что мне поручено повести роту на место наших будущих работ в деревню Коробки. Пылаев меня перебил.
— Успеется. Вы меня оставили без единого грамма продуктов, а мы… Идем покажу.
Он встал, повел меня во двор, и там я увидел трех коней: знакомую мне Ласточку, рядом хрустели овсом рыжая кобыла и серый мерин, тут же две овцы жевали сено, а в конце двора висела только что освежеванная туша коровы.
— Какая обида, не смогла дойти! — воскликнул Пылаев. — Стельная на последнем месяце — пришлось прирезать. А я-то мечтал — будет у нас свое молочко, своя сметанка. Ну, ничего, наживем другую. Имей в виду, — продолжал он, указывая на рыжую кобылу, — эту зовут Синица, а серому я еще не успел придумать кличку.
— Иван Васильевич, — спросил я, — а откуда все это?
— Гм, откуда? — засмеялся он. — Разве на войне спрашивают? Ну, идем кончать завтракать. Ольга Семеновна, что будет — котлетки, фрикаделечки, биточки?
— Увидите, сюрприз, — отвечала та.
Но сюрприз оказался неожиданно иным: только что были украдены наши обе овцы. Конечно, их украли солдаты проходившей мимо части. Пылаев начал вопить на незадачливого старичка-стройбатовца, но ничего не поделаешь — назад не воротишь. Веселье завтрака было испорчено.
Я рассказал Пылаеву, как меня все тащат на рекогносцировки и как мне это опостылело. Он ответил:
— Я поеду вперед на машине в штаб. Буду говорить о тебе с майором Елисеевым, а ты веди роту.
На этом мы расстались.
Впоследствии Пылаев любил рассказывать, как прошел 250 километров со 150 людьми, питаясь за счет щедрости местного населения, как они, случалось, не зевали, если что-либо плохо охранялось, как по пути сами гнали самогон, как пили его и меняли на бензин и на другое… И, словом, добрались.
И от наших бойцов я слышал яркие рассказы об этом путешествии. Во время немецкой оккупации крестьяне Брянской и Черниговской областей за три года успели снять три урожая. Сознавая, что работают не в колхоз, а для себя, люди выходили на работу все, от мала до велика, и старались не покладая рук.
Немцы не сумели организовать реквизицию этих трех урожаев, хотя издавали грозные приказы. Они привыкли, что в Германии все приказы исполняются безоговорочно, и полагали, что и у нас встретят такую же покорность.
Но и русские, и поляки сразу начинали думать — а как эти приказы обойти, как обмануть оккупантов? Немцы панически боялись лесов, и там наши прятали скотину, да не отдельных коров, а целые стада. Партизан крестьяне кормили обычно добровольно, ведь девать непривычно обильную продукцию было некуда. Эта добровольность продолжалась и после освобождения.
Когда 2-я рота 20 дней шла от Унечи до Любеча, хозяева везде щедро угощали от чистого сердца. И бойцы по пути охотно помогали хозяевам на огороде и в поле, случалось, хозяйки клали их с собой в постель вместо мужей. Словом, наши вспоминали о том путешествии с восторгом.
Без меня Пылаев снял моего помкомвзвода Могильного, так как у того убежали из взвода три девушки при явном его попустительстве. Теперь помкомвзвода был Харламов — однофамилец майора. Я был отчасти этим доволен. Старший сержант Могильный был исполнительный командир отделения, но технических знаний и инициативы у него не хватало. Сняли его без меня, поэтому он остался моим верным личным другом до самого конца войны.
Итак, я повел роту в деревню Коробки напрямки. Я шел впереди, за мной, звеня котелками, двигались наши завшивленные, грязные, оборванные солдаты. Особенно жалкими выглядели девчата, согнувшиеся под тяжестью своих узлов, личики их были печальные, глаза смотрели с тоской. Большая часть нашего войска шагала в лаптях. Мы медленно передвигались по ужасающей грязи.
Начался новый, чрезвычайно насыщенный событиями период моей жизни.
Между прочим, несколько дней спустя из УВПС-25 пришла грозная бумажка с требованием немедленно меня туда отослать. Майор Елисеев как раз ехал в Репки. Он говорил обо мне с Богомольцем, и тот сказал, что даже если от него придет вторая, еще более грозная бумажка, никуда меня не отсылать. Я и не подозревал, что обо мне поднялось столько споров. В тот момент я действительно был нужен Пылаеву до зарезу, так как у него остался лишь один командир 2-го взвода — юноша Виктор Эйранов. Командир 3-го взвода Сысоев жестоко поругался с Пылаевым и был отослан в распоряжение штаба 74-го ВСО еще со станции Унеча. Где находился командир 4-го взвода Миша Толстов, я еще буду рассказывать.
Глава пятнадцатая
Самогонная пучина
Разместили мы людей в Коробках удачно и скоро и без особой ругани и скандалов. Председатель колхоза, старшина Середа и я заходили в те хаты, где не обитали военные других частей, и, не обращая внимания на хозяев, писали на дверях цифры — сколько хотим поместить человек. Лучшую хату облюбовали для капитана Пылаева, для его Лидочки и для ординарца, вернее ординарки — хорошенькой Даши. На конце деревни выбрали просторную хату для командирской столовой и рядом для кладовой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: