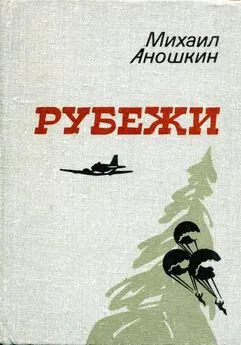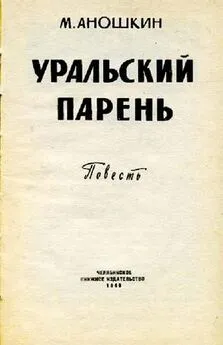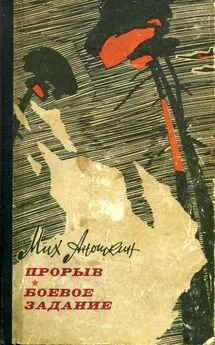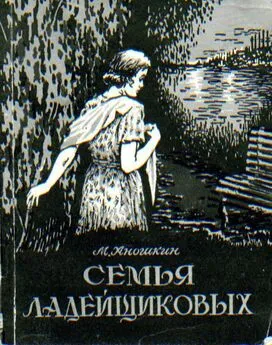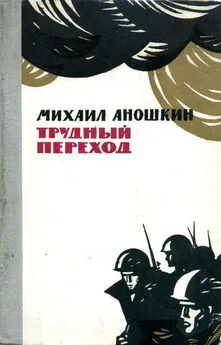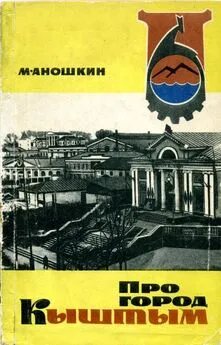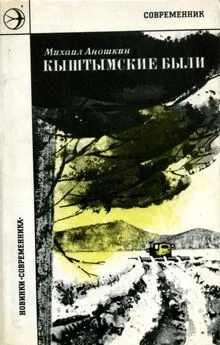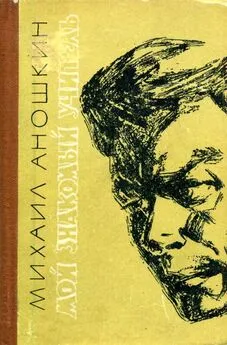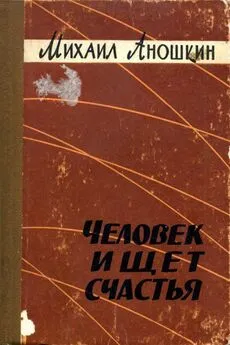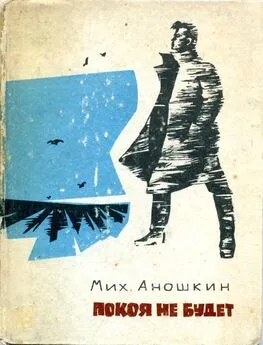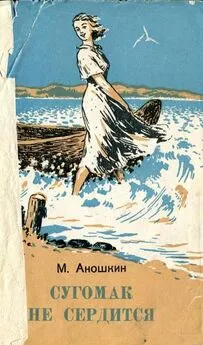Михаил Аношкин - Рубежи
- Название:Рубежи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1981
- Город:Челябинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Аношкин - Рубежи краткое содержание
Автобиографическая повесть. Автор выступает в ней представителем поколения, что пришло в жизнь после Великого Октября, а в пору зрелости первым приняло на себя удар фашистских полчищ, ценой великих жертв отстояло свободу и независимость Родины.
Рубежи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На занятия кружка стало приходить много народу, но то были мотыльки-однодневки. Они тянулись к нам под впечатлением слухов — шутка сказать, свои поэты завелись в училище.
Иван Иванов был нелюдим, и я никак не мог связать эту черту характера с тем, что он по своей инициативе знакомился с нами при первой встрече. В училище он ни с кем не сблизился, его друзья жили где-то в городе, и он мчался к ним сразу после уроков. Ни в какие другие кружки его не могли затянуть и канатом. А их было множество, и все обязательные. В них готовились к сдачам норм на значки ГТО, ПВХО, ГСО и «Ворошиловский стрелок». Иванова уговаривала Маргарита Федоровна, на него сердито косился военрук Мокрушин. По-моему, Ивана таскали даже к завучу. Потом махнули рукой. Ладно, пусть хотя бы хорошо учился и писал стихи.
В литературном кружке на него оглядывались, побаивались его едкого слова, острого языка.
Бывало, Маргарита Федоровна скажет:
— Ну-ка, Миша, теперь почитай ты.
У Иванова сразу раздуваются ноздри, как у охотничьей собаки, учуявшей дичь. Он глядит на меня, вроде бы умоляя: давай, давай, чего тянешь. Слушает, вытянув шею, на губах полуулыбка. Боится пропустить хотя бы слово. Как-то прочел я стихотворение о пограничниках и завернул такую рифму: «вьюга — зверюга». Иванов аж задохнулся и прерывистым от волнения голосом попросил:
— Повтори.
Я повторил. Иванов так и рухнул на стол — его душил смех. Маргарита Федоровна заколыхалась, Мишка Зыков визжал от восторга. Не удержался и я. Хохотали до изнеможения, еле опомнились. А чудо-рифма с тех пор стала нарицательной. Если нужно было уничтожить какую-нибудь дребедень, Иванов обычно изрекал:
— Э, снова «вьюга — зверюга»!
Мишка Зыков специализировался на баснях, потом кинулся в лирику, но не романтического склада он был человек. Врезались мне в память две строчки из какого-то его стихотворения:
Тихо тикают часы,
Кошка спит в свои усы.
Иванов долго потешался над ними. Спустя много лет получил я от Зыкова письмо и сразу же ответил. Зачем-то процитировал и эти строчки. Мишка отчитал меня: мол, ничего хорошего не запомнил, а ахинею носишь в памяти.
Стенная газета нас уже не устраивала. Маргарита Федоровна придумала — давайте издавать рукописный журнал. Иванов и название нашел подходящее: «Прожектор». Пусть освещает нам путь вперед.
— А что, — задумчиво проговорила Маргарита Федоровна. — В этом есть что-то символическое — «Прожектор».
Журнал нужно было оформлять, и оформлять со вкусом. И конечно, никто кроме Юли Ичевой, моей одноклассницы еще по семилетке, не мог этого сделать. Юлия посещала занятия кружка, но однажды прочитала свой рассказ о том, как во время пожара смелый человек спас котенка. Иванов пренебрежительно махнул рукой:
— Ерунда! У Пушкина лучше! — Он имел в виду описание пожара в «Дубровском». Юлия обиделась, несколько занятий пропустила. Когда обсуждали план издания журнала, вспомнили о ней. Юлия неплохо рисовала, почерк у нее был каллиграфическим. Она долго отнекивалась. Иванов предложил компромисс: пусть ее рассказ будет помещен в первом номере, но все заботы об издании журнала она должна взять на себя. Юлия согласилась и добросовестно переписывала наши опусы до тех пор, пока не уехала в Челябинск, где поступила в учительский институт. Тогда это можно было сделать после окончания двух курсов педучилища. Во время войны Юлия добровольцем ушла на фронт, проявила отвагу при спасении раненых, но сама погибла. В честь ее кыштымцы назвали одну из улиц города.
Кружок мы посещали три года, выпустили около десятка номеров «Прожектора». К сожалению, после смерти Маргариты Федоровны они затерялись.
Маргарита Федоровна не раз приглашала нас к себе домой. Пили чай и читали стихи. Комнатка у нее была маленькая и уютная. Была в ней книжная этажерка, а на ней томики стихов. Маргарита Федоровна включала лампу с зеленым абажуром и тихим проникновенным голосом читала Пушкина, Надсона, Есенина…
Как и везде, и у нас были учителя любимые и нелюбимые. Про Маргариту Федоровну я уже говорил. Удивительно доброй души человек. Я не помню случая, чтоб она на кого-то повысила голос, кого-то зло обругала. Разбирая чей-нибудь неблаговидный поступок, а их у нас хватало, она сама краснела от стыда, переживала за виновника.
Еще один наш кумир — Кирилл Германович Ржаников. Хотя он и не получил высшего образования, но эрудицией обладал исключительной. Преподавал историю педагогики и рисование. На уроках никогда не пользовался ни записями, ни конспектами, ни книгами. Слушать его было одно удовольствие: ни шаблонных фраз, ни стереотипных формулировок. Любое замысловатое положение высвечивал конкретными примерами, фактами.
Кирилл Германович был участником гражданской войны. Мы часто просили его вспомнить что-нибудь о тех временах. Глядели на него с обожанием. Еще бы! Сражался с белогвардейцами, участвовал в опасных операциях. И еще он хорошо знал историю Кыштыма. Вместе с группой таких же энтузиастов писал книгу: откуда повелся Кыштым и чем он знаменит.
Урок Кирилла Германовича последний. Прозвенел звонок, а расходиться не хочется. За окнами разлохматила седые космы пурга. Мы просим Кирилла Германовича рассказать о прошлом Кыштыма. Он не отказывается. Садится на стул верхом, облокачивается на спинку и начинает:
— Представьте себе тайгу. Без топора не пробиться. Без топора и в путь не выйдешь: немало зверя в тайге. Бежал человек с каторги, из Невьянска, где Демидов свирепствовал. Забрался в тайгу, облюбовал на берегу речушки место и построил домишко. Может, так и начался наш Кыштым? Кто знает? Но и до этих мест дотянулись загребущие руки Демидова. В середине восемнадцатого века основал он на речке Кыштымке железоделательный заводик. Это уж по документам известно. Перво-наперво церковь построил на острове. А вековые сосны начисто вырубил. Сел как-то на пенек, проголодался, видишь ли, а слуги ему бражку и всякую снедь притащили. Сидит Демидов и говорит: «Никто не знает и не ведает, что на этом пеньке Демидов обедает!»
И начнет Ржаников плести кружева кыштымской побывальщины — заслушаешься. Забудешь обо всем: и что дома ждут, и что уроки делать надо.
Кирилл Германович учил нас и рисованию. У нас с Мишкой Зыковым кое-что получалось. Как-то готовились к Октябрьскому празднику, и Ржаников оставил после уроков человек пять, поручил оформить актовый зал. На мою долю выпала нелегкая задача — скопировать государственный герб. Кирилл Германович дал мне какой-то журнал с рисунком герба и попросил перевести его на фанеру, в цвете, само собой, и в увеличенном виде. За дело я взялся бойко, но скоро понял, что работа не такая уж простая. Ржаников заметил мои затруднения, подавал советы и ждал, что будет дальше: брошу или буду бороться до победы. Приятели мои задания выполнили и ушли домой. Я остался один. А занимались мы тогда во вторую смену. Если бы Кирилл Германович сказал, что я тоже могу идти домой, кинулся бы вслед за ребятами. Но Ржаников молчал, предоставляя право выбора мне самому. Я продолжал рисовать. Когда дело клонилось к концу, осталась самая малость, подключился Кирилл Германович и подключился не для устранения недостатков в рисунке, а чтоб приблизить финиш.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: