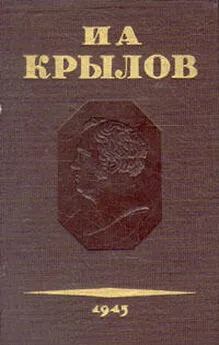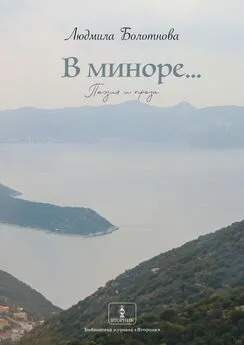Иван Аксенов - Том 2. Теория, критика, поэзия, проза
- Название:Том 2. Теория, критика, поэзия, проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:RA
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-902801-04-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Аксенов - Том 2. Теория, критика, поэзия, проза краткое содержание
Том 2. Теория, критика, поэзия, проза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это было белое море смычков, независимое от звуков, которых уже не слушал Флавий Николаевич и которым властвовал бог Нептун в образе дирижера и при посредстве гипертрофированной зубочистки. Волна упала, упала, упала, и сквозь ее прозрачную пену кудрявились теневые волюты улиток, кастаньеты колков, смываемые голыши запонок и помадные медузы, утло колыхаемые на неумирающих гребнях. Сливаясь, набегам, обивая и захлестывая, море рванулось с эстрады и стало всем: это оно обратило в росу радугу, радугу, радугу, радугу хрусталя, блики бутылок, жидкую призму вин и густую ликеров, оно и никто другой, ласково качнуло головы и завило золотые локоны на пенных под крем рефлексами затылках, как волюты скрипок, волюты ионийского ордена, гребни волн священного моря Эллады. И бритым губам было не щекотно, и в носу кололо, и глаза уходили в чащу или чашу ночи, которая ото дня отличалась только характером своего освещения. – Смотрите, Анюта смеется и кивает, против нас то ведь зеркало: все видно. Какие у тебя глаза стали черные, зрачки большие… Последнее слово упало в зал, как стакан: смычки укладывались в двуспальную постель своих законных скрипок, на эстраде сквозь пыль потухло освещенье румын, расходившихся буквами с оборванной ветром вывески или иероглифами непостижной криптограммы, именуемой шантанным счетом, чей математический смысл давно отправился к неисследумейшим пределам сознания, а непосредственное значение – плата, не считая и не требуя сдачи, что и было достигнуто.
Созвездие Лиры дунуло в лицо мягкой пуховкой первого часа, никому не нужные деревья не смели пошевелиться, очевидно, осведомленные о необычайности путешествующей особы. Потому что резиновый мяч преувеличенно выпученных камер колыхал, а рысак звонко брякал подковами по эху затаившей дыханье перспективы ослепших домов леди Годивы 157 , катя не Болтарзина, не из внимания к пышноголосой госпоже N: не в именах было дело, но в том, что сквозь струи холодного и нагретого воздуха, сквозь тени еще не запыленных листьев, сквозь девственные мечи фонарей, мчалась она, бесчисленноименная вертительница, Великая Центрифуга называемая также – любовь.
Милые, милые, да, – люди о которых я пишу, везли ее в своей груди, как вы, надеюсь, дорогая моя, будете носить когда-нибудь живоподобие счастья первых ласк милого, милого (хотя на полчаса) навек любовника; они несли ее в образе чистейшего ее владычества и она переливалась всеми своими подобиями, как самый зыбкий по цвету, самый чистый прозрачностью, самый неодолимый в прочности алмаз-камень. Когда мы любим недели, месяцы и даже годы (это, несомненно, бывает и вольтерьянцы напрасно попробуют возражать), когда мы ждем первого румянца (от щек до шеи) милой при нашем имени, которое она будет прятать от подруг как дорогую вещь, хрупкую и летучую, боящуюся чужого дыханья и недоброго глаза, когда мы плачем от тоски в мире, пустом до завтра, наполняя его шепотом единственного имени (вами исковерканного до такой неузнаваемости, что оно было дано нами и только нами), когда мы, наконец, молим о тихом беге ночную колесницу подземного Митры 158 , а плечи наши дрожат от огня плеч прекраснейшей – велики и смерти стоят те радости, но в них только фата любви при тех веселых и прискорбных обстоятельствах, которые я только что перечислил, мы любим много, я сильно опасаюсь, что мы любим весь мир, но только отчасти мы любим саму любовь, ее одну, чистую, как свет на Гималайской вершине, говорящую с нашей вечной и одной любовью, поверх всех имен и наречий, не нуждаясь во времени для созреванья, в памятном лице для поцелуя, в горечи обиды для воспоминания. Потому столь веселы так называемые развратники и столь мрачны так называемые добродетельные супруги. Меня обвинят в парадоксальности, зря обидят человека, потому как эта самая история если и грешит чем-нибудь, то скорее уж слишком неприкрытым, восторгом перед добродетелью и всяческими общими местами – зданиями им подобными в том числе. Но если мне скажут, что про горечь воспоминаний второго порядка я забыл, я возражу, что читатель человек до очевидности рассеянный – есть чистая любовь, я поддерживаю точность выписанного мной адреса, но есть и скверное к ней отношение. А любовь зла. Зла и мстительна. Человек же… Прекрасен, конечно, прекраснее всего на планете, но именно потому и прекрасней всех все умеет испакостить.
Глухая, глухая, непроходимая непроходимая, тайга тайга; по ней виляет узенькая тропинка; продираясь сквозь корявый ельник, высовывается на нее кожаная морда лося. Зверь втягивает воздух со свистом, как когда продувают свечи мотора, и вдруг панически бросается в чащу, где долго еще трещит его отчаянное бегство: по этой тропинке, сутки тому назад, прошел человек. Не мудрено при таких задатках отравить своей эманацией не только дремучий воздух векового леса, но и что-нибудь позапутаннее – ту же любовь, например?
Вот кредитка, протянутая Флавием Николаевич кучеру, объемистому, как пневматик ласкового экипажа, не вызвала никаких сомнений в подлинности, именно благодаря своей засаленности, но ковер лестницы был безупречен, как жена Цезаря или поклон человека, отворившего потребованный и заранее оплаченный номер. В комнате царила ночь освещения, не менее распахнутого, чем в зале румынского потопа, в нее первой вошла милая N, а гроза противников Скрамовой метрики быстро произвел некоторую безнравственную операцию, свидетельствовавшую о его глубокой порочности и которая состояла в том, что он наскоро выдернул из бумажника некоторое количество портретов негодяев и негодяек с целью присвоения, ибо по-настоящему наличность должна бы принадлежать спутнице: таков закон и порядок, если хотите, и вера. Но, мне стыдно рассказывать, до какой степени может пасть человек в минуты самые святые в жизни всякого многоклеточного организма, вы думаете, он так думал? Вы ошибаетесь! Как ни в чем небывало, чувствуя себя, по-видимому, вполне достойным звания честного человека и гражданина, Флавий Николаевич подошел к столу и с наглядной наглостью ярмарочного фокусника, выбросил на него остатки содержимого своего портфельчика. Бедная, невинная женщина, кажется, была покорена таким жестом и оказалась за то на высоте призванья: она положила тогда свою лапку на грязноцветную горку и со смехом ответила: «все!» – «Нет, ты мне дай на извозчика, а то как же я тебя довезу до дома. – На тебе три рубля. – Мало, милая, прибавь. – Ну, вот, бери еще три и за глаза с тебя довольно!» – А смех ее разбивался, как ваза арбитра Петрония 159 , как радуга того Альпийского водопада, где английский кровосмеситель заставляет явиться тому подобному колдуну 160 мгновенную фею. Но там не было Альп, было лучше: кушетка, приученная многими любовниками, повторяла на память их лозы, кресла углубляли всякое желанье и учили всякой возможности, кровать была из того же добродетельного магазина, где ее покупают чистые невесты, не знавшие до брака объятий, так как они благоразумно умели развлекаться дешевле, без посторонней помощи, и невинные молодые люди того же калибра. Все было на месте, все было усовершенствовано и все было сама любовь. Она и была.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: