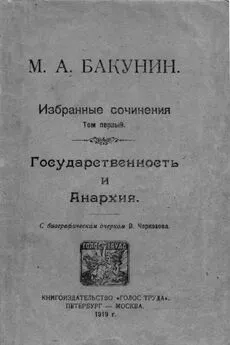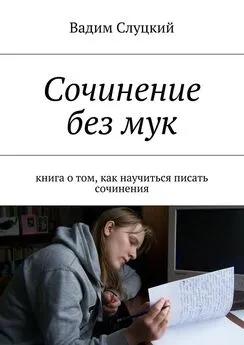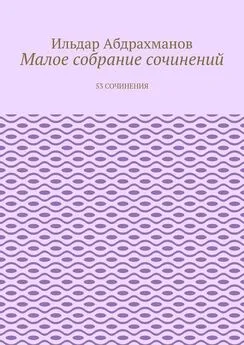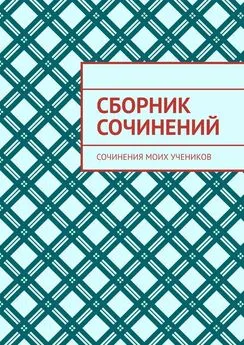Сочинения
- Название:Сочинения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сочинения краткое содержание
Сочинения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Давно замечено, что в переломные периоды истории искусство оказывается кое в чем подвижней общественных наук, опережая их в отображении психологических особенностей различных социальных типов [38] См.: Б. Д. Парыгин. Социальная психология как наука. Лениздат, 1967, с. 15.
. Демократический очерк благодаря гибкой природе своего жанра давал возможность запечатлевать движение жизни, не психический склад тех или иных классов, а именно психический сдвиг [39] Л. M. Пивоварова. Мастерство социально-психологического анализа в очерках А. И. Левитова. — В кн.: «Мастерство очеркиста», вып. 1. Изд. Казанского университета, 1970, с. 95.
. В произведениях Левитова ясно видно, как шатались патриархальные установления в семейных, религиозных, в «мирских» сферах. Достоинства определялись по умению «добывать деньгу» — не зарабатывать, а именно добывать. Дочери ли, отпущенные в город, в «горничные», обирают незадачливых поклонников «из благородных», сыновья ли разбойничают на большой дороге, — все это «ради семейства», следовательно — умно, следовательно — одобряется. А деревни близ больших городов и вовсе крестьянское дело оставили — ни пахотой, ни торговлей, ни «рукомеслами» не занимаются. «Мы, сударыня ты моя, кормимся от вашего брата, потому как приезжают к нам господа для вольного воздуха… По шоссе опять много всякого народа и ходит и ездит, ну, значит, от другого…» — многозначительно добавляет недавний хлебопашец («Беспечальный народ», 1869). Исконные деревенские «предания» рушились.
Левитова особенно занимало нарождение «хамского хамства». Кулачество, купечество прибирало к своим рукам и разоряющиеся «дворянские гнезда», и мужицкую нищету. Распад общины, господство кулака, отсутствие патриархального единства, что так мучило впоследствии чуткий талант Глеба Успенского, почти на десятилетие раньше были отмечены Левитовым («Накануне Христова дня», 1861; «Сладкое житье», 1861; «Расправа», 1862; «Именины сельского дьячка», 1863, и др.).
Но знамением времени были и характеры, заключающие в себе «инициативу народной деятельности» (Салтыков-Щедрин). Левитова влекли натуры вольнолюбивые, независимые, чуждые рабского духа или стремящиеся стряхнуть его с себя. Их неосознанный, стихийный протест приобретал порой уродливые формы — бродяжничества или разбоя; но им была чужда та сытая неподвижность, о которой мечтал глубинный «российский селянин». Редко и смутно мелькало у героев Левитова классовое ощущение несправедливости мироустройства, — как, например, у маленького дворового в «Моей фамилии», который долго не мог понять, почему его отец, самый сильный человек в деревне, робел перед «жиденьким» барином и отдал ему сына на расправу: «Под самой розгой как-то я успел задуматься о слове дворовый мальчишка… Собака — дворовая, Агафью зовут дворовой… значит, и я дворовый?» В минуту прозрения в себе Человека молодой художник, сын деревенского дьячка, на окрик барина: «Ты отчего, каналья, не кланяешься мне?» — бросает в ответ: «А ты мне отчего не кланяешься?» («Степная дорога ночью», 1861). Но чаще, свободные и бесшабашные, левитовские «бунтари» просто бродят по белу свету в поисках земли обетованной (и видится она им «в Одесте» или в «Аршаве»). Они убегают от крестьянского труда, интуитивно ощущая унизительность его подневолья, его нечеловеческой тяжести. Бродяжничество для них единственное средство раскрепощения духа и освобождения от рабской прикованности к сохе. Былинно-песенными интонациями звучит рассказ о «диве степном, молодце-непоседе», чьи приключения обрастают легендами, пока докатываются до односельчан, втайне завидующих и его воле, и воображаемому богатству, уж непременно нажитому в дальних краях («Степная дорога днем»). В поэтическом строе как будто подслушанных у народа историй — в их певучих периодах, цветистых образах — извечная мечта народа о вольности. Иной раз такой молодец, «голова удалая, до новых людей и до новых краев жадная», устав от одиночества и превратностей бродяжей жизни, поселяется в жилом месте, обзаводится хозяйством, находит даже «милую душу» себе по сердцу, но очень скоро опять безудержно тянет его на волю — «голода и холода наприматься, буйного ветра вволю наслушаться» («Степные выселки», 1864). Не умели эти мятежные натуры употребить свои силы себе и другим на пользу. Жизнь их, «при известной обстановке самая замечательная и разнообразная, в конце концов истрачивается на пустяки», — говорил Щедрин.
Левитов понимал, что даже самые сильные из них не могли противостоять застою и дикости российской степной глуши. Есть у него рассказ об истинном самородке по прозвищу «Шкурлан». В приподнятом тоне народного сказа повествует автор о его удали, смелости, готовности вступиться за обиженных перед сильными мира сего. Но в какой-то момент, как будто боясь увлечься, Левитов возвращает своего героя на реальную почву: ни грамотность, ни одаренность не спасли Шкурлана от обычной участи российского бедолаги, — пьянство и самодурство сгубили и его. Как бы в двух ракурсах видим мы этого человека: восторженными глазами его односельчан и трезвым взглядом автора. Увлеченность Левитова поэтической стороной народного быта, народного характера никогда не затмевала у него здравого понимания вещей.
Но и возвышенность народного духа, и бездны нравственного падения, следствие темноты или «соблазнов» новой жизни, — все стороны быта и психологии народа предстают у Левитова в неизменном ореоле сострадания. Оно смягчает тяжелое впечатление от мрачных сюжетов пореформенной поры и высветляет облик самого автора, часто сопровождающего своих персонажей напутственным словом, открытым обращением к героям и читателям. Герой и автор очень близки у Левитова, а в лирических «степных очерках» их голоса сливаются, создавая единый образ. В «Степной дороге днем» возглас рассказчика при виде всеобщего народного страдания («Идете вы и думаете: что было бы, ежели бы все это, не вынесши своей тяжкой боли, вскрикнуло вдруг?») — это открытое излияние автором своего чувства. Позже, в очерках, посвященных «московским нравам», автор несколько отдаляется от рассказчика, — не случайно под многими очерками стоит подпись «Иван Сизой». Это не псевдоним, это лирический герой Левитова, на которого автор смотрит уже несколько со стороны. Но не сразу ему удается уйти от самого себя. В очерке «Крым» можно видеть движущие нити этого поединка. Пьяный Сизой беседует в трактире со своим двойником — «респектабельным господином», пописывающим в газетах. Реплика этого незадачливого литератора в адрес «погибшего создания» («Она исправится, ее только возвысить нужно»), такая нелепая в трактирной оргии «пропащих людей», пародирует надежды самого Левитова. «Мой приятель свысока смотрел на этот спектакль, а я, облокотись на стол, рыдал болезненно о всем „Крыме“». «Я» — это Иван Сизой. Он еще остается любимым и кровно близким писателю образом. (Совсем объективизируется повествование много позже — в очерках «Не к руке», «Девичий грешок», 1874 г.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: