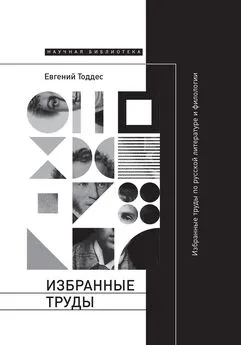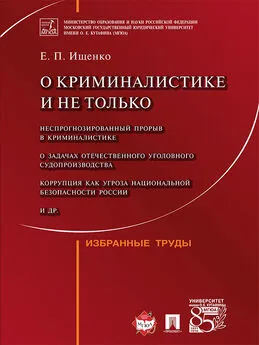Евгений Тоддес - Избранные труды по русской литературе и филологии
- Название:Избранные труды по русской литературе и филологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1062-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Тоддес - Избранные труды по русской литературе и филологии краткое содержание
Избранные труды по русской литературе и филологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
155
Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1999. T. 1. С. 384 и 730.
156
«Язык богов» в цит. тексте – конвенциональная формула, но в связи со «Словом милой» следует иметь в виду, что с тех пор как русские стихотворцы, начиная с Сумарокова, стали сочинять специально о женском пении и музицировании, они наделяли это искусство признаками волшебства и даже атрибутами божественности (см. очерки: Кац Б. «Благодарим, волшебница…» О стихах, посвященных певицам // Музыкальная жизнь. 1985. № 16, 17). В этом плане показательны два одновременных перевода стихотворения Шиллера «Laura am Klavier», выполненные Державиным и Мерзляковым в 1805–1806 гг. (обстоятельства появления конкурирующих переводов были освещены в известном комментарии Я. К. Грота: Державин Г. Р. Сочинения. СПб., 1865. Т. 2. С. 540–541; о том же, в связи с позицией И. И. Дмитриева: Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 35–36). Державин в своем переводе «Дева за клавесином» говорит: «Царица жизни ты и смерти, / Сил правишь тысячьми, как бог!»; в другой редакции под заглавием «Дева за арфою» это сравнение изменено – «как маг!» (ср. далее: «Волшебница! одно твое воззренье, / Один твой звук пленит всю тварь»). Игра ее описывается как космогоническое действо: «И как, истекши из хаоса / И вихрем зиждущим взнесясь, / Из мрака солнцы воссияли: / Твоих так гласов ток златый». Ср. эпизод «сотворения мира» у Мерзлякова («К Лауре за клавесином. Из Шиллера»): «Так в недрах хаоса, из бурь животворящих / Раскрылись, понеслись полки миров блестящих, / И ночь зарделася от утренних лучей! / Таков волшебный тон гармонии твоей!» (Мерзляков А. Ф. Стихотворения / Вступ. статья, подг. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. Л., 1958. С. 240). В этой космогонии обоих поэтов следует учитывать по крайней мере косвенное воздействие оратории Гайдна «Сотворение мира» (исполненной в Петербурге уже в декабре 1800 г.); в 1801 г. отдельным изданием вышло «Творение (Сочинение Гайдена)» Карамзина – написанное прозой и стихами, в качестве русского текста оратории, разделенного на «речетативы с музыкою», хоровые партии, арии, дуэты и трио. [В «Рассуждении о лирической поэзии» Державин называет это карамзинское сочинение единственным примером оратории на русском языке (ХVIIІ век. Сб. 15: Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой. Л., 1986. С. 253).]
В своем переводе Державин перед финалом снова связывает магию музыки с божественным покровительством: «Но стой и мне поведай, дева: / В связи ль с духами ты небес? / И тот ли их язык в Эдеме, / Музыка коим говорит?» Параллельный пассаж у Мерзлякова заканчивает текст (последняя фраза которого: «Открой мне таинство: не сим ли языком / В эдеме праведных веселие вещает, / Когда Егову прославляет?»), а Державин, в отличие от оригинала (как указал Я. К. Грот), делает финал видением инобытия («Мелькают сквозь небес раздранных / Младых духов мне в солнцах троны: / За гробом утрення заря!») – и даже эмфатической теодицеей в последней строке: «Кощуны, прочь! – есть Бог!»
При всем визионерском накале чувственная сторона музыки не только не умаляется у Державина, но акцентируется – в частности, нанизыванием анафороподобных фрагментов, с тем чтобы передать, как «звоны, полные души, со струн роскошно устремленны», воспринимаются слушателем, – приятно, великолепно, важно, отрадно и т. д., а в силу содержащихся в музыке контрастов (по Мерзлякову, «всеуслаждающий в гармонии раздор») и: «уныло, мрачно, тяжело – / По мертвым дебрям как ужасный шорох нощи». Но в этом многообразии земная любовь затенена, почти вытеснена – тогда как в переводе Мерзлякова она выдвинута в первых же двух строфах. Сама природа – как и поэт – влечется к музицирующей деве некой эротической силой, исходящей от ее игры: «Природа, алчная к твоим восторгам, страстно / Приникла и молчит! – Волшебница! – воззришь, / И я весь твой навек!»
Через два года Мерзляков опубликовал большое (72 строки, 18 строф на основе 6-стопного ямба), но с мадригальным заглавием стихотворение («К неизвестной певице, которой приятный голос часто слышу, но которой никогда не видел в лицо»), тесно связанное с переводом из Шиллера (это было отмечено Ю. М. Лотманом), учитывающее и державинский перевод (дева теперь играет на арфе; ср. также эмфазу: «Так! есть бессмертие!.. оттоль сей звук исходит!»), но главным образом усиливающее любовную топику – на фоне варьированного здесь «обзора» высоких мотивов. Поющая арфистка вознесена: «Твой ум теряется всевышнего в делах, / Я вижу новый свет и ангелов парящих, / И бога, и… тебя в блистающих лучах!», но это не мешает любовной линии, доведенной до риторической кульминации: «Сколь силен твой язык, о смертных утешенье, / Могущая любовь! сомнение с тоской, / Надежды, жалобы, восторги, упоенье <���…>». Следует и жалоба – поэт воображает себе соперника: «Я в страхе трепещу! кто песне сей внимает? / Кто, слишком счастливый, у ног твоих лежит <���…> ?» И хотя ревнивое «мечтанье» рассеивается («Нет, ангел! ты одна с вечернею зарей!»), концовка минорна – текст, в жанровом отношении комбинированный, заключен элегически: «Что, сердце, ты грустишь? не верь мечте отрадной! / Ах, поздно! ах! прости, свобода и покой!»
Знал ли Пушкин о конкурирующих переводах и связанном с ними стихотворении Мерзлякова к моменту возникновения «Слова милой» (перевод Державина он должен был знать если не по журнальной публикации, то по ч. II итогового собрания 1808 г.) – отдельный вопрос, для ответа на который недостает данных. Однако эти тексты должны быть учтены как фрагмент предыстории метадиады. В них эрос и мелос находятся в единстве и во всяком случае не образуют коллизии. Подобный «синкретизм» в будущем будет неоднократно использован Пушкиным, но в «Слове милой» поэт именно вскрывает коллизию и делает ее лирическим сюжетом, сугубо камерным, где мелос не поднимается выше звучания эоловой арфы.
157
О пометах Жуковского на рукописи лицейских стихотворений и авторской правке см.: Коровин В. И., Макаров А. А. Этапы развития русской поэзии: Жуковский и Пушкин // Жуковский и литература конца XVIII – XIX века. Л., 1988. С. 216. Мнение авторов о несовместимости эпитетов в строке «Волшебен голос твой унылый» (к которой относилась единственная критическая помета по поводу «Слова милой») вряд ли основательно. «Элегическое» значение слова унылый делало это сочетание определений непротиворечивым.
158
Известна копия, в которой заглавие отсутствует (I, 716).
159
О филомеле/соловье в русском поэтическом языке см.: Гин Я. И. Проблема поэтики грамматических категорий. СПб., 1996. С. 141–153. К 1790 – нач. 1810‐х гг. относится ряд стихотворных текстов, авторы которых (Державин, Карамзин, Крылов, М. Магницкий) соревновались в описании соловьиного пения ( Вацуро В. Э. Указ. соч. С. 33–34).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: