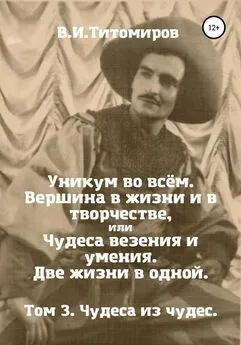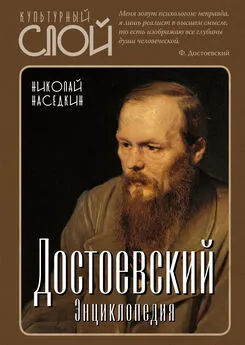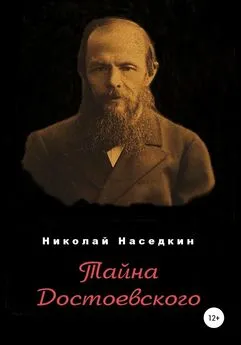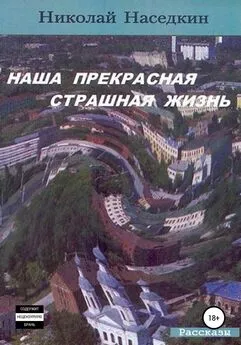Николай Наседкин - Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве)
- Название:Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Наседкин - Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве) краткое содержание
Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Жить с таким скорлупчатым насекомым в снах, а ещё точнее сказать - в душе, совершенно невыносимо и невозможно. Эту страшную аллегорию можно даже и понять-расшифровать так: скорлупчатое животное не то что поселилось-взросло в душе Ипполита, а вообще вся душа его, под влиянием культивируемого циничного атеизма, превратилась в скорлупчатое насекомое... Разумеется, Достоевский подобным прямолинейным объяснениям-толкованиям поддаётся с трудом, однако ж недаром один из самых вдумчивых и проницательных читателей-учеников его -- Франц Кафка -- развил эту аллегорическую идею до поглощения скорлупчатой насекомостью всего человека - с головы до пят.
Впрочем, в случае с Ипполитом Терентьевым образ скорлупчатого насекомого далее трансформируется в конкретный образ тарантула: в одном из очередных бредовых кошмаров "кто-то будто бы повёл" Ипполита за руку, "со свечкой в руках", и показал ему "какого-то огромного и отвратительного тарантула", который и есть "то самое тёмное, глухое и всесильное существо",(-6, 411) которое правит миром, разрушает безжалостно жизнь, отрицает бессмертие. А тарантул, в свою очередь, в новом кошмаре Ипполита персонифицируется с... Рогожиным, который в виде привидения явился ему. Именно после этого отвратительного видения Ипполит и решился окончательно на самоубийство.
Но особенно важно, что образ тарантула и привидение Рогожина (будущего убийцы Настасьи Филипповны - уничтожителя жизни и красоты!) следуют-появляются сразу после воспоминаний Ипполита о картине, которая поразила его в доме Рогожиных. Это полотно Ганса Гольбейна Младшего "Мёртвый Христос". На полотне крупным планом изображён только что снятый с креста Иисус Христос, притом в самой натуралистической, гиперреалистической манере - по преданию, художник рисовал с натуры, а "натурщиком" ему послужил настоящий труп, как в пишет "Письмах русского путешественника" Карамзин, "утопшего жида"190. Вспомним, что раньше там же, у Рогожиных, эту картину лицезрел князь Мышкин и в диалоге по поводу её с Парфёном услышал от последнего, что тот любит на эту картину смотреть. "Да от этой картины у иного ещё вера может пропасть!", - вскрикивает князь. И Рогожин спокойно признаётся: "Пропадает и то..." (-6, 220)
По утверждению Анны Григорьевны, мысль-восклицание Мышкина дословное воспроизведение непосредственного впечатления самого Достоевского от картины Гольбейна, когда увидел он её впервые в Базеле191. В романе описание картины даётся через восприятие Ипполита, его глазами и весьма, конечно, художественно. Но, думается, интереснее посмотреть на это "атеистическое" полотно глазами 20-летней юной женщины, которой, в отличие от Ипполита, Достоевский описывать картину не помогал:
"...это ?Смерть Иисуса Христа?, удивительное произведение, но которое на меня просто произвело ужас, а Федю так до того поразило, что он провозгласил Гольбейна замечательным художником и поэтом. Обыкновенно Иисуса Христа рисуют после его смерти с лицом, искривленным страданиями, но с телом, вовсе не измученным и истерзанным, как в действительности было. Здесь же представлен он с телом похудевшим, кости и ребра видны, руки и ноги с пронзенными ранами, распухшие и сильно посинелые, как у мертвеца, который уже начал предаваться гниению. Лицо тоже страшно измученное, с глазами полуоткрытыми, но уже ничего не видящими и ничего не выражающими. Нос, рот и подбородок посинели; вообще это до такой степени похоже на настоящего мертвеца, что, право, мне казалось, что я не решилась бы остаться с ним в одной комнате. Положим, что это поразительно верно, но, право, это вовсе не эстетично, и во мне возбудило одно только отвращение и какой-то ужас, Федя же восхищался этой картиной..."192
Итак, у Рогожина от этой картины вера пропала (впрочем, разумеется, не только от одной картины). У Ипполита она тоже производит в душе своеобразный окончательный толчок, укрепляет в суицидальном намерении. Вот его рассуждения-выводы:
"...когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть, и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул: "Талифа куми" - и девица встала, "Лазарь, гряди вон", - и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, - в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо - такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов её, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о тёмной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено, и передается вам невольно. Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили каждый в себе громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. И если б этот самый учитель мог увидать свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошёл на крест (как видим, Ипполит не сомневается в самоубийстве Христа! -- Н. Н.), и так ли бы умер как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится, когда смотришь на картину..." (-6, 410)
Мысли о добровольной быстрой смерти и раньше мелькали в раздражённом мозгу Ипполита. К примеру, в сцене, когда они с Бахмутовым остановились на мосту и стали смотреть на Неву, Ипполит вдруг опасно нагибается над перилами и спрашивает спутника, мол, знает ли тот, что только что пришло ему, Ипполиту, в голову? Бахмутов тут же догадывается-восклицает: "- Неужто броситься в воду?.." "Может быть, он прочёл мою мысль в моём лице", подтверждает в "Необходимом объяснении" Терентьев. (-6, 407)
В конце концов, Ипполит окончательно решает уничтожить себя, ибо "не в силах подчиняться тёмной силе, принимающей вид тарантула".(-6, 413) И вот здесь возникает-появляется ещё одна капитальная и глобальная идея-проблема, которая сопутствует суицидальной теме неотъемлемо, а именно - поведение человека перед актом самоубийства, когда человеческие и вообще все земные и небесные законы над ним уже не властны. Человеку предоставляется возможность перешагнуть через эту черту безграничной вседозволенности, и шаг этот находится в прямой зависимости от степени озлобленности человека на всё и вся, от степени его цинического атеизма, да и от степени умопомрачения рассудка, наконец.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: