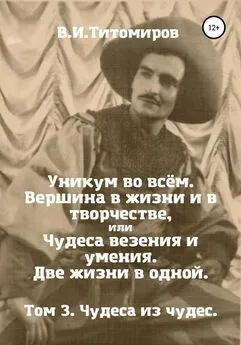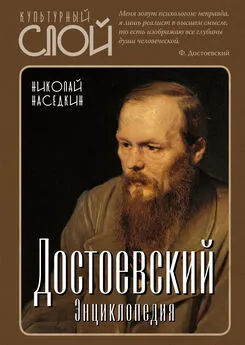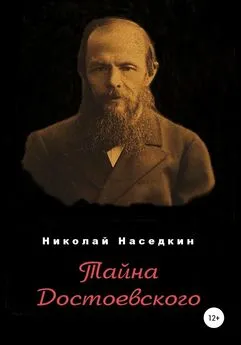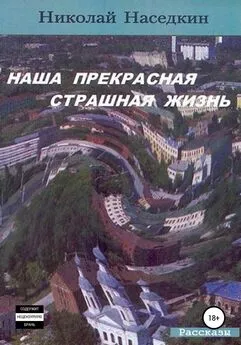Николай Наседкин - Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве)
- Название:Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Наседкин - Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве) краткое содержание
Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ипполит до этой, крайне опасной для окружающих, мысли доходит-скатывается. Его даже рассмешила идея, что если б вздумалось ему убить сейчас человек десять, то никакой суд уже не был бы над ним властен и никакие наказания ему не страшны, и он, наоборот, последние дни провёл бы в комфорте тюремного госпиталя под присмотром врачей. Ипполит, правда, рассуждает на эту острую тему в связи с чахоткой, но, понятно, что чахоточный больной, решившийся на самоубийство, ещё более своеволен в преступлении. Между прочим, уже позже, когда самоубийственная сцена произошла-кончилась, Евгений Павлович Радомский в разговоре с князем Мышкиным высказывает весьма ядовитое и парадоксальное убеждение, что-де новую попытку самоубийства Терентьев вряд ли совершит, но вот "десять человек" перед смертью укокошить вполне способен и советует князю стараться не попасть в число этих десяти...
Эта тема -- возможности, дозволенности преступления перед актом суицида и неподсудности в данном случае преступника-самоубийцы, неподвластности его земному, человеческому суду -- очень волновала-тревожила Достоевского. Она уже возникала ранее в "Преступлении и наказании" (Свидригайлов), появится-возникнет позже в "Бесах" (Ставрогин) и "Сне смешного человека".
Но необходимо ещё вернуться к исповеди Ипполита, дабы вчитаться-вслушаться в тот фрагмент, где он обосновывает право неизлечимо больного человека на самоубийство: "...кому, во имя какого права, во имя какого побуждения вздумалось бы оспаривать теперь у меня моё право на эти две-три недели моего срока? Какому суду тут дело? Кому именно нужно, чтоб я был не только приговорён, но и благонравно выдержал срок приговора? Неужели в самом деле, кому-нибудь это надо? Для нравственности? Я ещё понимаю, что если б я в цвете здоровья и сил посягнул на мою жизнь, которая "могла бы быть полезна моему ближнему", и т. д., то нравственность могла бы ещё упрекнуть меня, по старой рутине, за то, что я распорядился моею жизнию без спросу, или там в чём сама знает. Но теперь, теперь, когда мне уже прочитан срок приговора? Какой нравственности нужно ещё сверх вашей жизни, и последнее хрипение, с которым вы отдадите последний атом жизни, выслушивая утешения князя, который непременно дойдёт в своих христианских доказательствах до счастливой мысли, что в сущности оно даже и лучше, что вы умираете. (Такие как он христиане всегда доходят до этой идеи: это их любимый конёк.) (...) Для чего мне ваша природа, ваш Павловский парк, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и ваши вседовольные лица, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счёл за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всём этом пире и хоре участница, место знает своё, любит его и счастлива, а я один выкидыш, и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!.."
Казалось бы, Ипполит доказывает своё право распоряжаться собственной жизнью перед людьми, но на самом деле он пытается заявить своё право, конечно же, перед небесами и упоминание о христианах здесь весьма красноречиво и, в этом плане, однозначно. И далее Ипполит впрямую проговаривается:
"Религия! Вечную жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: "я есмь!", и пусть ему вдруг предписано этою высшею силой уничтожиться, потому что там так для чего-то, - и даже без объяснения для чего, - это надо, пусть, я всё это допускаю, но опять-таки вечный вопрос: для чего при этом понадобилось смирение моё? Неужто нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело? Неужели там и в самом деле кто-нибудь обидится тем, что я не хочу подождать двух недель? Не верю я этому..."
И уж вовсе затаённые мысли на эту особенно жгучую для него тему прорываются в конце "Необходимого объяснения":
"А между тем я никогда, несмотря даже на всё желание мое, не мог представить себе, что будущей жизни и провидения нет. Вернее всего, что всё это есть, но что мы ничего не понимаем в будущей жизни и в законах её. Но если это так трудно и совершенно даже невозможно понять, то неужели я буду отвечать за то, что не в силах был осмыслить непостижимое?.."
Борьба веры и безверия усилием воли заканчивается у Ипполита победой атеизма, утверждением своеволия, обоснованием бунта против Бога, и он формулирует самый краеугольный постулат суицида:
"Я умру, прямо смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни! Если б я имел власть не родиться, то наверно не принял бы существования на таких насмешливых условиях. Но я ещё имею власть умереть, хотя отдаю уже сочтенное. (Как видим, Ипполит почти цитирует Монтеня, вспомним-ка: "Жизнь зависит от чужой воли, смерть же - только от нашей" -Н. Н.) Не великая власть, не великий и бунт.
Последнее объяснение: я умираю вовсе не потому, что не в силах перенести эти три недели; о, у меня бы достало силы, и если б я захотел, то довольно уже был бы утешен одним сознанием нанесённой мне обиды; но я не французский поэт и не хочу таких утешений. Наконец, и соблазн: природа до такой степени ограничила мою деятельность своими тремя неделями приговора, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я ещё могу успеть начать и окончить по собственной воле моей. Что ж, может быть, я и хочу воспользоваться последнею возможностью дела? Протест иногда не малое дело..." (-6, 414-417)
Акт самоубийства, так эффектно задуманный Ипполитом, тщательно им подготовленный и обставленный, - не получился, сорвался: в горячке он забыл заложить в пистолет капсюль. Но курок-то он спустил, но момент-секунду перехода в смерть он испытал вполне. И здесь особенно интересно отметить, что его акт - и особенно в связи с одним местом в исповеди-объяснении очень своеобразно подействовал на князя. Это связано с жизнью и бессмертием и опять, как зачастую бывает у Достоевского, олицетворением глобальной проблемы становится-выступает мелкоскопическое насекомое (вспомним пауков в баньке Свидригайлова, муху, которую он ловит перед самоубийством или, опять же, муху, которую ловит уже Ставрогин в момент самоубийства Матрёши и красного паучка на герани, приковавшего к себе его пристальное внимание в тот момент...). На сей раз, у Ипполита, это - "крошечная мушка".
И вот Лев Николаевич Мышкин, уже после сцены неудачного самоубийства, оставшись один, вдруг вспоминает эту мушку из исповеди Ипполита, и в голове его начинают клубиться мысли-воспоминания - о Швейцарии, о собственной жизни, о своей никчёмности и ненужности, бесконечном одиночестве, наконец: "И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит: один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он всё это говорил и тогда; все эти самые слова, и что про эту "мушку" Ипполит взял у него самого, из его тогдашних слов и слёз. Он был в этом уверен, и его сердце билось почему-то от этой мысли..." (-6, 426)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: