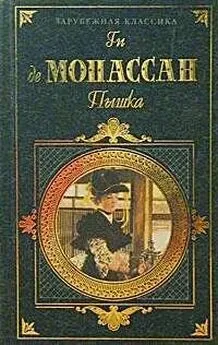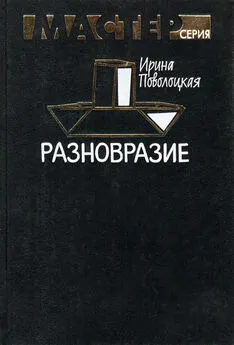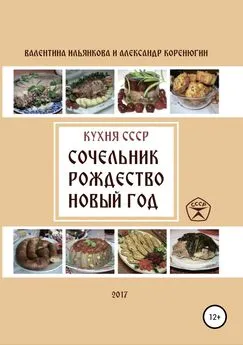Ирина Поволоцкая - Сочельник
Тут можно читать онлайн Ирина Поволоцкая - Сочельник - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Русская классическая проза.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Сочельник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Поволоцкая - Сочельник краткое содержание
Сочельник - описание и краткое содержание, автор Ирина Поволоцкая, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Сочельник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Сочельник - читать книгу онлайн бесплатно, автор Ирина Поволоцкая
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
- Сейчас, сейчас я помогу тебе, - засуетился человек, имя которого было так сложно, что неизбежно отделяло его от других людей, но Роберт вдруг сделал сильное движение обоими крыльями, взлетел на форточку и прощально кивнул ему круглою вороньей башкой. - Подожди! - взмолился человек. - Не улетай! Я так хорошо работаю, когда ты сидишь на той полке и смотришь на меня. Прости, но я чувствую себя человеком рядом с тобой. И потом, я люблю тебя. - А она? - спросил Роберт. - Она! Я слышал, как она крикнула тебе - "я или он". Да, вспомнил человек и подумал с тоскою и уже не в первый раз: неужели это и есть та прелестная девочка, которая как наваждение возникла перед мешковатым провинциалом в тот памятный день, когда, высокомерно скользя по таявшему мартовскому снегу в коротеньких замшевых башмачках с тоненькими - сейчас сломаются - каблучками, она прошла мимо него, и он увидел ее лицо с заносчивою линией рта, и серые глаза блеснули холодом, и он удивился, что бывают на свете такие неправдоподобно красивые существа, и совсем не мужская жалость наполнила его готовое любить сердце. - Не улетай от меня, - тихо попросил человек ворону, и ворона послушалась человека. ...Они долго сидели вдвоем, забившись в угол дивана. Все уже спали, и девочка, и жена, и нянька, и даже кот бросил выть, потому что его рана оказалась пустяковой. Утром Роберт исчез. Человек распахнул окно - холодный воздух ударил в лицо - и крикнул: - Роберт! - Кар! Кар! - живо ответили ему с высокого тополя, росшего над помойкой, который так любили окрестные вороны. Но Роберта там не было. Теперь каждое утро, боязливо оглянувшись на дверь, чтобы не увидела жена, он высовывался во двор и звал: - Роберт!.. Роберт! Вороны не отвечали ему, потому что привыкли; они деловито прыгали с ветки на ветку и каркали друг дружке. - Кар! - попробовал сказать и он. - Кар! - получилось похоже. - Ты совсем спятил! - сказала жена, все-таки оказавшаяся однажды за его спиной. Внешне их жизнь никак не изменилась с отсутствием Роберта. Вечерами жена по-прежнему уходила, а он сам, торопливо поужинав, шел к себе. Он пытался работать, но все мешало ему: возбужденные крики подростков со двора, бухтенье телевизора, который смотрела нянька, даже тихие шаги кота за дверью. Кот ждал, что его наконец позовут и он пройдет по ковру, сладко мяукнув, прыгнет на хозяйский диван и, запустив в плюш острые коготки, прильнет к нему всем своим кошачьим сердцем. Но кота не звали, и он сидел за дверью упрямым изваянием или один бродил по темной квартире, прислушиваясь к звукам засыпающей улицы. Кот первым узнавал, когда приезжала хозяйка: задрав хвост, он бежал встречать. - Ты ждешь меня, - радовалась она, не подозревая о возможном коварстве, и не сняв пальто, сопровождаемая котом, шла в кухню. Она угощала кота рыбою, а сама, застыв перед холодильником, долго глядела в него, улыбаясь. Наконец, прогремев кастрюлями на всю квартиру, она вытаскивала из холодильника свои любимые холодные котлеты, наливала в стакан соку со льдом, брала пепельницу, с удовольствием закуривала и, пододвинув к себе телефон и не вынимая сигарету изо рта, звонила подруге, у которой только что была. Однажды под вечер он возвращался домой, усталый, замотанный чушью, и когда перешел канаву, вырытую в апреле, но так и не засыпанную, и уже повернул к своему подъезду, его окликнули. Ему закричали "кар" знакомым дребезжащим голосом: "Кар! Кар!" И он понял сразу же и крикнул: - Роберт! - Кар! - обрадовался Роберт. Он сидел на ветке дымящегося почками тополя, но он был не один. С ним была его подруга, и она тоже сказала застенчиво: - Кар! - Кар! - повторил человек. - Кар! Кар! - Получилось похоже. - Кар! - опять позвали с ветки. - Роберт, дорогой! - крикнул он. - Кар! И легко взлетел на ветку и опустился рядом. ...Красные лучи низкого солнца пронизывали город. Теплый воздух поднимался туманом, и сладкое дыхание остывающей земли кружило голову. Начиналась ночь, тополиная, нежная; ночь, в которую распускаются листья тополя. Эту историю многие рассказывают на свой лад, но я слышу насмешливое контральто, с женскими гортанными руладами, с побрякушечками, которые всегда позвякивали на ее античной шее, и в ушах, и, конечно, на запястьях, потому что, рассказывая, она всегда то опускала, то воздымала руки. II. Мой отец сразу узнал ее, у ней была особенная походка - не скрыться, и когда она прошла мимо в темной вуали, чтоб не узнал никто, отец узнал по шагам, узнал бесповоротно, испугался, понял - мой дядя, его старший брат Шалва, не знает, что она сюда ходит. Отец еще зачем-то оглянулся посмотреть, как она исчезает в полумраке гостиничного коридора, и вуаль таинственно, слишком таинственно трепещет под шляпой. О, тогда умели носить тряпки! Но шагала она быстро, резко, как сейчас ходят девчонки, был уже восемнадцатый год нового века, и она сама была чуть старше. - Эта дама часто бывает здесь? - спросил отец у швейцара. Тот кивнул и сказал, к кому она ходит. Отец был знаком с ним: армянин из Баку, богатый удивительно, такой несостоявшийся русский Рокфеллер, пальцы короткие, но элегантен как бог. И она к нему ходила, а мой дядя Шалва ничего не знал об этом. Мой дядя был князь. Не такой князь, про которых говорят "князь", и люди улыбаются, мол, у них там все князья; он был настоящий светлейший князь. Вместе с моим отцом их было шестеро детей, четыре брата и две сестры, они все очень дружили между собой, особенно мой отец и дядя Шалва, поэтому, когда отец увидел ее в гостинице, он понял, что не может скрывать это от дяди, они были с дядей как одно, они даже похожи были больше всех детей. Но еще отец понял - дружба их кончена, если скажет. Этой ночью мой дядя и отец кутили вместе. Отец сказал: - Шалва, ты не должен жениться на ней. Дядя посмотрел на моего отца вот так, дядя понимал, отец что-то знает. - Все неправда о ней! - так ответил дядя Шалва моему отцу в ту ночь, когда они кутили вместе, и ушел с кутежа. И женился, конечно. Между ним и отцом что-то порвалось тогда, и даже потом, когда она, эта женщина, обманула дядю, ничего не восстановилось. Только в тридцатые дядя опять стал писать отцу из эмиграции длинные письма на тонкой бумаге, каждый листик разного цвета, один сиреневый, другой фрэз. За эти письма отца и посадили. Кстати, мой дядя был прав, говоря - все неправда о ней! ведь если женщина одарена красотой и талантом, она сама не представляет, что она такое. А что может понять в этом мужчина? Но правдой было - когда она шла под венец с моим дядей и на ней была белая вуаль, а не темная, как в гостиничном коридоре, где она скользнула мимо отца по плюшевой дорожке, не заметив его, так спешила, она увидела первого друга моего дяди. Этот дядин друг был шафером у них на свадьбе, знаменитый артист, соболиные брови, черные кудри, глаза яшмовые.Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать