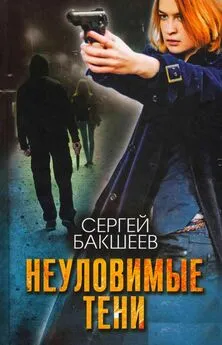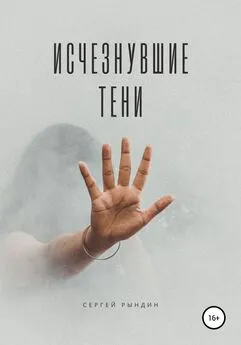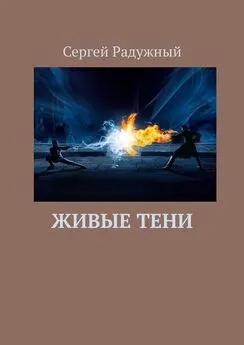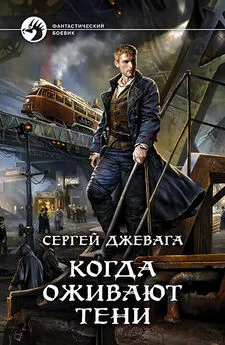Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
- Название:Потревоженные тени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Советская Россия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00543-Ч
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Терпигорев - Потревоженные тени краткое содержание
Рассказы в очерки С. Н. Торпигорева (Атавы) (1841 — 1895), составившие цикл «Потревоженные тени», принадлежат к выдающимся достижениям русской демократической прозы конца прошлого века. По происхождению тамбовский помещик, Терпигорев сформировался как писатель и журналист под благотворным влиянием передовых идей 60-х годов, сотрудничал с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным в «Отечественных записках» и других изданиях прогрессивного направления. В своем творчестве писатель широко использовал впечатления детства и юности, воссоздавая картину русского провинциального захолустья предреформенной поры, выводя яркие, социально четкие и художественно выразительные портреты бар-крепостников и подвластных им крестьян.
Потревоженные тени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
3
Сергей Николаевич Терпигорев родился в 1841 году в семье тамбовских столбовых дворян, чей род восходил к XVI веку, ко временам Ивана Грозного, однако в веке XIX семья принадлежала к тому, что и в жизни и в литературе называлось «захудалыми родами». Средней руки помещики, родители будущего писателя были не совсем бедны и вовсе не богаты. Читатель терпигоревских произведений, в особенности цикла «Потревоженные тени», может хорошо представить себе материальную обстановку, в которой протекали детство и отрочество Терппгорева.
Важнее, одпако, была нравственная атмосфера семьи, те добросердечие и понимание, та гуманность, которая пронизывала отношения родителей и детей, родителей и их многочисленных родственников, родителей и дворовых людей, а также остальных крестьян, принадлежащих отцу и матери подрастающего мальчика. Гуманность естественная, ненарочитая, в основе которой лежали, с одной стороны, врожденная доброта, а с другой, благоприобретенное сознание людского равенства, ненормальности, а следовательно, и непрочности существующего порядка, при котором человек владеет человеком. Конечно, никто этих убеждений перед мальчиком не демонстрировал и не развивал, просто ими, этими убеждениями, было пропитано поведение старших, их поступки, их, как уже было сказано, отношение к окружающим. Так что и к мальчику, отроку, юноше Сереже Терпигореву эти убеждения переходили не в виде четко изложенных и заученных заповедей, а как бы естественно переливались в него, в его поступки и слова: именно так, а не иначе было принято в доме, именно так надо было вести себя, а по-другому — нехорошо, неудобно, стыдно, безнравственно. Эта домашняя этическая академия сформировала многие определяющие черты в личности и творчестве писателя.
И еще в этом доме, в отличие от многих помещичьих домов захолустной Тамбовской губернии, были книги, выписывались газеты и журналы, «которые тогда, кажется, один отец во всем уезде и получал». Все это читалось, хотя бы и мимолетно, обсуждалось. Таким образом, мир ребенка не ограничивался домовыми и усадебными впечатлениями, но расширялся в пространстве и во времени. Пространства расширяла литература, времена — история. И хотя домашнее обучение, — к детям приглашали учителей и гувернеров, об этом можно прочитать и в «Потревоженных тенях», — было довольно неупорядоченным, а чтение бессистемным (читалось то, что было в отцовских шкафах), какие-то плоды оно давало. По крайней мере вырабатывался, определялся круг интересов.
Каков он был, можно увидеть по позднейшим воспоминаниям писателя: «Я перечитал все, что тогда было: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, перечитал в журналах даже новейших в то время писателей... По истории перечитал Лоренца, Карамзина, Полевого, Устрялова и массу других сочинений...» Этот определившийся в детстве интерес к русской литературе и истории сказался и позднее, когда Терпигорев уже учился в тамбовской гимназии: «Читали мы не вздор какой-нибудь, а все серьезные вещи: историю Соловьева, Белинского... Тургенева, Костомарова, Гончарова, только что появившегося тогда Добролюбова».
Гуманность в родительском доме оттеняла то, что видел, не мог не видеть, как бы ни старались взрослые кое-что скрыть от ребенка, будущий писатель вокруг, в домах многочисленной родни, в поведении соседей-помещиков, узнавал из рассказов дворни. Он многое увидел, услышал, запомнил и понял в несчастной и униженной жизни бесправного «крепостного быдла», этой «крещеной скотинки», на всю жизнь проникся сочувствием к русскому крестьянину и позднее писал, что «для меня вне вопроса о мужике и земле не существует никаких вопросов».
4
«Вопрос о мужике», о защите русского мужика от поползновений вчерашних крепостников прежде всего вставал перед уже известным писателем С. П. Терпигоревым (знали его и по псевдониму Сергей Атава — портрет, написанный художником П. П. Соколовым, так и называется «Портрет писателя Сергея Атавы»), когда он начал писать и публиковать очерки и рассказы, впоследствии объединенные в единую книгу под названием «Потревоженные тени». Все они были основаны на собственных воспоминаниях о поре крепостничества, на детских и отроческих впечатлениях автора.
В атом был большой резон. От первых критических откликов на произведения Терпигорева (и те, что составляют настоящий том, и в особенности те, что составили два тома «Оскудения») до немногочисленных нынешних литературоведческих работ о писателе (А. П. Могилянский, Н. И. Соколов) тянется традиция сближать его творчество с творчеством М. Е. Салтыкова-Щедрина, находить влияние гневной щедринской антикрепостнической сатиры па страницы, вылившиеся из-под терпигоревского пора. В этом нет натяжки. Сам Терпигорев возражал только, когда иные современные ему критики и мемуаристы договаривались до того, что якобы Салтыков в тех случаях, когда терпигоревские произведения печатались на страницах «Отечественных записок», вписывал в них иные пассажи и даже целые страницы. Но за разговорами о влиянии Щедрина на Терпигорева забывается немаловажное обстоятельство: построение терпигоревских рассказов, их «мемуарная» форма были во многом определены внутренней и внешней полемичностью по отношению к появившимся в это время многочисленным мемуарам, запискам, воспевавшим уют и тепло дворянских гнезд, идиллию отношений помещиков и крестьян, безмятежность и счастье крепостных мужичков, благоденствовавших под отеческой барской рукой. И печатались частенько такие записки как раз в том самом «Историческом вестнике», куда Терпигорев отдал большую часть своих «Потревоженных теней». Так что он намеренно строил свои рассказы как воспоминания о том времени, о своем милом детстве, только в них он воскрешал те детали и события прошлого, о которых авторы каких-нибудь «Рассказов старой бабушки» забыли или хотели бы забыть. Он как бы давал бой на чужой, захваченной и обжитой противником территории.
Терпигорев не хуже тех, кто стоял на защите дворянских интересов, знал, как тяжело и непросто живется российскому крестьянину в пореформенной действительности, он ее, эту действительность, не идеализировал, как не идеализировал и самих крестьян, понимая, что многим из них непривычна свобода, ответственность за себя. Он любил и цитировал некрасовские строки из «Кому на Руси жить хорошо»:
Порвалась цепь великая.
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..
Но он знал и другое, был уверен в том, что в этой непривычной поначалу свободе для российского крестьянина есть будущее, что он сладит с самим собой и своей жизнью рано или поздно — лишь бы не мешали да не загоняли снова на старую или новую цепь. Для него главным было то, что эта великая цепь разорвалась, что мужик перестал быть собственностью другого человека, пусть даже доброго и гуманного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

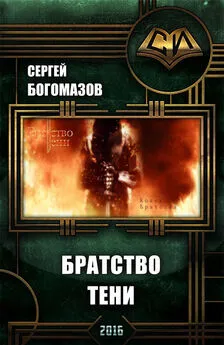
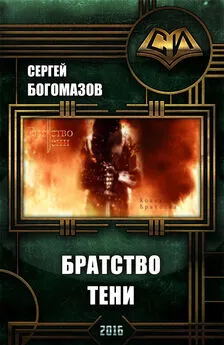
![Сергей Джевага - Когда оживают Тени [litres]](/books/1058497/sergej-dzhevaga-kogda-ozhivayut-teni-litres.webp)
![Сергей Синякин - Мрак тени смертной [повесть]](/books/1068385/sergej-sinyakin-mrak-teni-smertnoj-povest.webp)
![Сергей Синякин - Мрак тени смертной [сборник повестей]](/books/1068386/sergej-sinyakin-mrak-teni-smertnoj-sbornik-poveste.webp)