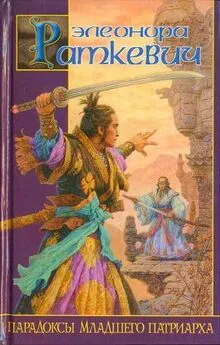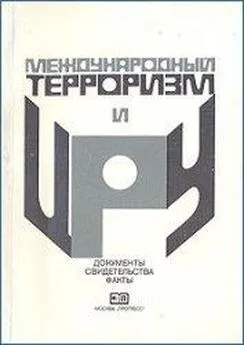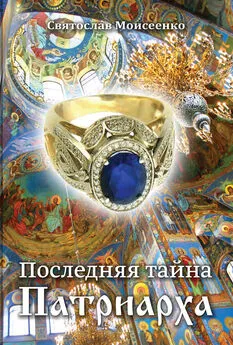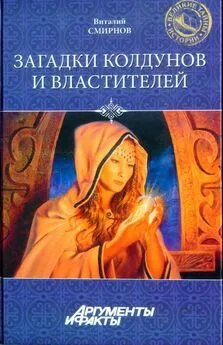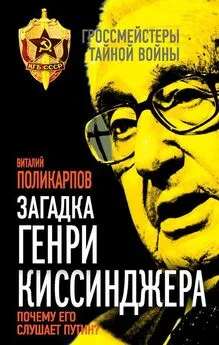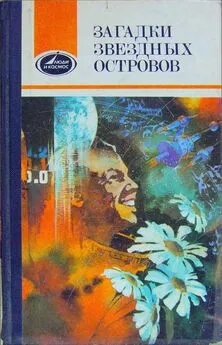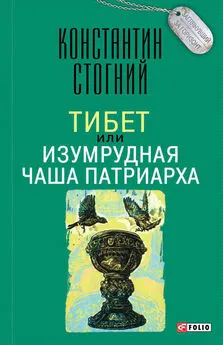Виталий Сырокомский - Загадка патриарха
- Название:Загадка патриарха
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Сырокомский - Загадка патриарха краткое содержание
Загадка патриарха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
- Мы зачем послали вас в "Литгазету"?! Чтобы вы расхваливали сомнительные романы?!
Речь шла о рецензии на роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Не помню, как я пытался оправдываться, но секретарь ЦК продолжал мне выговаривать, упрекать в неправильной литературной политике.
Вспоминается еще один разговор с секретарем ЦК. Отдел культуры и Союз писателей как-то "спустили" нам список литераторов, имена которых не должны были появляться на страницах газеты со знаком "плюс". Список - в него попали все "инакомыслящие" - был составлен явно с подачи КГБ. Я позвонил Демичеву и буквально возопил:
- Петр Нилович! Это же цвет нашей литературы, все они - авторы "Литгазеты", и без них нам некого печатать...
- Не знаю я ни о каком списке, - спокойно ответил Демичев. Он явно не лгал. - Запомните: мы не против людей, а против неверных идей.
Вот эту формулировку редакция и выставляла как щит, когда на нас "наезжали" цензура и КГБ. Я ссылался на указание секретаря ЦК, и это действовало.
Конечно, на черном счету "Литгазеты" немало выступлений, которых я сейчас стыжусь: против "Нового мира", против Солженицына, Галича, Синявского, Даниэля, Буковского, международного ПЕН-клуба... Писал такие "отповеди" часто сам Чаковский, у него было ловкое и циничное перо. Потом Кривицкий ехал с редакционным текстом в ЦК, к Альберту Беляеву, или в Союз писателей, к секретарю правления Юрию Верченко, человеку консервативных взглядов, но порядочному, доброжелательному, знавшему толк в людях. Там статья отшлифовывалась, "утрясалась", "заострялась" или "притуплялась" в зависимости от момента. Никаких личных оскорблений, как правило, не допускалось.
Надо сказать, что руководитель Союза писателей СССР Георгий Марков был человеком умеренным, не кровожадным и направлял работу газеты в бархатных перчатках. Без мелочной опеки, без дерганья, разве что навязывались бесконечные приветствия юбилярам - как правило, безвестным писателям из провинции. Сколько мы ни сопротивлялись этой пустой трате газетной площади, Марков был непреклонен. Приветствия примиряли писателей с "чужеродной" второй тетрадкой "ЛГ", обычно не имевшей ничего общего с художественной литературой и происходившими в ней баталиями.
Тираж газеты рос, мы приносили все больше дохода Литературному фонду, и Союз писателей, ценя это, смотрел сквозь пальцы на наши финансовые "шалости". Я ввел беспрецедентное правило: писатель, интересный для нас, выезжая за границу, получал от редакции сто инвалютных рублей на "транспортные расходы". За это он обязывался написать статью или репортаж о стране, в которой побывал. Это было выгодное "помещение капитала": вместе с липовой справкой посольства, заверявшей мифические "транспортные расходы", мы получали первоклассный публицистический материал.
Один только раз ЦК и Союз писателей вмешались в эту графу расходов. В Англию собирался известный в то время литератор из Тулы Анатолий Кузнецов. Верченко, с согласия Отдела культуры ЦК, попросил меня выдать Кузнецову наши сто инвалютных рублей. Помню, как Кузнецов приехал ко мне, и мы всерьез обсуждали, о чем он мог бы написать, вернувшись из Англии. Наверное, в душе Кузнецов смеялся надо мной, потому что уже тогда решил стать "невозвращенцем".
Любопытная деталь. В поездке Кузнецова сопровождал опытный переводчик Георгий Анджапаридзе. Когда обнаружилось, что Кузнецов остался, Анджапаридзе, как рассказывают, заявил корреспондентам: "Господа, я больше никогда не увижу Англию!". Но ему повезло: он увидел Англию, и не раз: Георгий Анджапаридзе сделал неплохую карьеру, на время став директором крупнейшего издательства "Художественная литература", и в этом качестве не однажды выезжал за границу.
Об Англии мне напоминает и эпизод, связанный с Евтушенко. В те годы мы с женой и сыном жили постоянно в Переделкино, на служебной даче "Литгазеты". Евтушенко, также круглый год живший в Переделкино на собственной даче, не раз забегал к нам поговорить "за жизнь", рассказать о своих грандиозных планах, прочитать только что написанное стихотворение. К нему в наибольшей степени относятся слова "Поэт в России - больше, чем поэт". Он обладал высоким гражданским темпераментом, и это чувствовалось даже в домашних беседах. Евтушенко был искренне озабочен тем, что происходило в стране, его касалось все: положение интеллигенции, судьбы "диссидентов", дела друзей - поэтов и прозаиков, отношение власти к писателям.
Однажды Женя разбудил нас в час ночи. Его тогдашняя жена, очень красивая, симпатичная, приветливая англичанка Джан, должна была скоро родить и решила ехать на родину, во-первых, веря в искусство британских врачей, а во-вторых, желая, чтобы ребенок стал гражданином (или гражданкой) Великобритании, что обеспечивалось автоматически, если он рождался на территории этой страны. Лететь самолетом Джан не отважилась, поехала поездом, а в это время по всей Европе начались страшные снежные заносы, поезда застревали, ходили нерегулярно.
- Что делать? Что делать? - Евтушенко был в отчаянии.
Я его успокоил:
- Дайте номер поезда и номер вагона, остальное беру на себя.
На даче у меня была записная книжка с номерами телефонов всех зарубежных корреспондентов "Литгазеты". Я звонил всю ночь, и дело было сделано. Уже в Варшаве к Джан явился с букетом цветов собкор "ЛГ", заверил, что до ГДР путь расчищен. В Берлине ее ободрил другой наш собкор - и так было по всему маршруту следования поезда до северного побережья Франции, откуда железнодорожный паром доставил вагоны в Англию. У Жени и Джан родился второй сын...
Вообще у нас в Переделкино были замечательные, выдающиеся соседи, среди них Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Анатолий Рыбаков... Они часто к нам захаживали. Андрей, вернувшись из Франции, впервые прочитал у нас на даче свое замечательное стихотворение о Марке Шагале: "Ах, Марк Захарович, Марк Захарович!". Я заметил слезы на глазах жены, она вспомнила рассказы отца о недолгой дружбе с Шагалом, когда тот еще жил в Москве, неподалеку от Сретенки, вспомнила и свою старую бабушку, близко знавшую мать Шагала еще в Витебске.
Белла, стихи которой я не всегда понимал, но всегда печатал, своим удивительным голосом читала поразительные строки, вызывая у нас восторг. Белла была такая возвышенная и необычная, какая-то потусторонняя, будничная жизнь словно вообще не имела к ней никакого отношения. Ее особая распевная интонация завораживала, магически притягивала. Она казалась такой хрупкой, беззащитной и в то же время сильной.
Дома ее ждала надежная опора - муж, художник Борис Мессерер. При всей своей неземной экзотичности она прекрасно находила общий язык с рабочими, строившими соседу "гараж с кибинетом". Я даже не осознавал, как нам повезло, что мы так запросто общаемся с великой поэтессой России.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: