Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба
- Название:Том 4. Путешествие Глеба
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00402-6, 5-268-00430-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба краткое содержание
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Путешествие Глеба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Анна Сергеевна не застала Олимпиаду. Спустившись с лестницы, села опять в сани и поехала вниз по Никитской.
Отец Сережи Костомарова шил некогда Глебу первую гимназическую шинель. Глеб и теперь одевался у него, в небольшом магазине на Никитской, против гимназии. Брат Сережи, постарше, но такой же ушастый и исполнительный, снимал мерку. (Отмеривая сантиметром на Глебе, диктовал подмастерью: пэ-пэ пятьдесят два, и т. п.). Сережу «пустили по ученой части». Но держали строго – все в семье было сурово, трудолюбиво, деспотично. В детстве не раз доставалось ему от отца – он рос не таким барчонком, как Глеб. Надо так надо, рассуждать нечего. Учись, делай что велят, усердствуй до капельки пота на веснушчатом носу. Сережа и усердствовал. Честолюбив, впрочем, не был: только бы «папочка не заругался».
Он был и усидчивей, и добросовестней Глеба. Добросовестнее отнесся и к поручению насчет Александра Григорьича.
Глебу не очень хотелось идти. Он под разными предлогами оттягивал: «Ну, на той неделе…» А потом: «Ах, у меня как раз сегодня урок у Розен». Но Сережа считал, что раз взялись, надо сделать. Он скромно настаивал: «Знаешь, Глеб, у него все учителя уже перебывали. И Михаил Михайлыч, и Козел… неудобно».
Наконец условились – в воскресенье в два часа. Сережа к Глебу зашел. Он попал не особенно удачно: Красавец только что устроил бурный бенефис Олимпиаде. По квартире прокатились гоноровые его рулады, хоть и тенором, но звонко: «Моя жена не может так вести себя! Это скандал, не допущу!» Был даже удар кулаком по столу. Олимпиада плакала у себя на постели, накрыв голову платком. («Грубый человек, не понимает душу женщины!») В передней Сережа нос с носом столкнулся с Красавцем, красным от гнева, с трясущейся челюстью, надевавшим свой полуцилиндр и желтые перчатки. Увидав Сережу, поджал губы. «Да, к Глебу… да, пожалуйста». И, накинув шубу, с видом оскорбленного, вполне не понятного и одинокого человека проследовал на лестницу.
Сережа очень смутился. Но что поделаешь… Через несколько минут он шагал уже с Глебом по оттепельным тротуарам Калуги.
Солнечный день, сосульки, стеклянная капель… какой воздух! Как блестят лужи, ярятся воробьи! Шуршащим горохом слетает их стайка с полуобтаявшей крыши – налетят на кофейную, протыкающуюся дорогу, разберут что надо, пред первым приближающимся извозчиком опять – пр-р-рх на другую крышу.
Глеб шел в некотором смущении. И дома вышло неприятно, и день этот вызывает блаженную, бессмысленно-стихийную радость, а идут они по такому делу…
Александр Григорьич жил недалеко, в Георгиевском переулке близ Никольской. Пока был здоров, вел прочно сложившийся образ жизни: днем в Училище, вечером дома. Вечером с улицы виден был его профиль – в кресле, укутанный пледом, под высокой стоячею лампой с абажуром читает он книгу, вполне неподвижно. Движется Катя, он нет. Он читает. Так было. Но с Рождества изменилось. Окна завешаны, ничего с улицы не увидишь.
У входной двери Глеб и Сережа заробели. Глеб нетвердо сказал: «Я сегодня ужасно плохо себя чувствую. Может быть, ты вместо меня скажешь? Ты лучше говоришь…» – «Нет, нет, уж как условились». Сережины глаза несколько даже испуганно на Глеба взглянули: «Тебе класс поручил, ты и говори». – «Я не отказываюсь, но…»
Отворила дверь бывшая Катя Крылова. По ее лицу видно было, какая тут жизнь. «Мы… от седьмого класса…» – Глеб поперхнулся, начало ораторства его было не блестяще. «Сейчас узнаю. Если только он не задремал…» Катя вышла. Глеб с Сережей стояли в маленькой передней, сняв фуражки. В квартире совсем тихо. Душно, пахнет лекарственно-сладковато.
Через минуту вошли в комнату Александра Григорьича. Запах лекарств усилился, но не безобидных ипекекуанов, ляписов детства и материнской заботливости. Глеб знал, что у больного должно быть полутемно. Когда сам он хворал, всегда задергивали занавески на окнах. Но здесь все другое. И на обычной постели своей лежит не обычный больной Александр Григорьич с грелкою на животе, а некоторый подсудимый, суд над которым идет в этой же страшно-мертвенной комнате. Сходство с «тем» Александром Григорьичем, ставившим кому надо колы, кому надо пятерки, у этого было. Но отдаленное.
Увидав Глеба и Сережу, он улыбнулся. Они робко сели на диванчик. Глеб собрал все свои силы.
– Александр Григорьич, класс… наш класс, который является… и вашим классом, поручил нам…
Глеб чувствовал себя неважно. Но обязательство на нем лежало, рядом сидит Сережа, скромно посапывает. Александр Григорьич смотрел умным своим, карим взором не то одобрительно, не то чуть насмешливо. И Глеб старался. Класс просил их осведомиться о его здоровье, выразить искреннее сочувствие, пожелать, чтобы скорее он оправился… Выходило натянуто и торжественно.
– Хорошо. Превосходно-с. И сказано красноречиво. Да. Но и само красноречие принимаю с признательностию. Красноречие не такая легкая вещь и в нем надо упражняться. Да. Упражняться-с, – он вдруг расширил глаза, и Глебу показалось, что прежний Александр Григорьич появился: вот сейчас запустит руку под фалду вицмундира, потрясет ею, поставит неполный балл.
Вступил и Сережа.
– Александр Григорьич, у нас в классе все ужасно жалеют, что вы больны.
– Тронут. Глас народа. Жалеют… – он опять расширил глаза. – Это приятно слышать. Двоек некому теперь ставить. Да. Двоек. Но и вы… я рад, что вы тоже обо мне вспомнили. Да. Оба. Катенька, слышишь? Поручение от класса.
– Что же, это очень мило с их стороны. Я тронута.
– Вот именно. Мило. Вполне мило.
Александр Григорьич приподнялся на локте, посмотрел на Глеба.
– Ну, а как же вы сами? Я давно вас не видел. Все по-прежнему? Чтение пакостного Золя? Астрономия по Фламмариону? Живопись? Говорят, вы берете теперь уроки на стороне? Да. На стороне. Без Михаила Михайлыча. А если он обидится? У какой-то заезжей художницы?
Глеб удивился, что и такие вещи ему известны.
– Ничего, ничего. Действуйте, работайте, пробуйте. Не так-то легко допробоваться… – Он опять строго расширил глаза. – Но надо! Урок задан, его надо выучить… и чтобы на полный балл! В жизни ничего легко не дается, ничего-с! Да. И никаких возражений. Даже умереть не так просто. Не так. Да. И никаких оправданий!
Александр Григорьич замолчал, смотрел теперь прямо и строго, не на Глеба и не на Сережу, а мимо. Во взгляде этом было что-то странно-упорное и убежденное. Есть и есть. Надо и надо. И самой смерти мог бы он поставить неполный балл.
Глеб чувствовал себя неуютно. Что-то его томило. Жаль было Александра Григорьича, но, как всегда, что-то в нем и останавливало, стесняло.
Александр Григорьич опять стал проще, расспрашивал об отдельных учениках. («Флягин все сморкается? Да, да. Ленище. В математике понимает, но ленище. Ничего не делает. Останется на второй год»). Спросил, хорошо ли идет у них тригонометрия. Сережа отвечал с точностью, простотою, спокойствием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







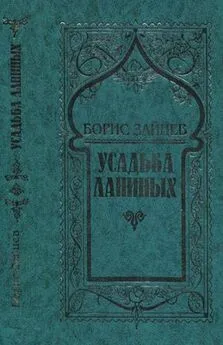
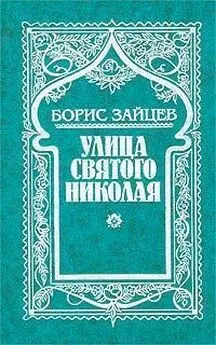
![Борис Зайцев - Далекое [сборник litres]](/books/1077155/boris-zajcev-dalekoe-sbornik-litres.webp)