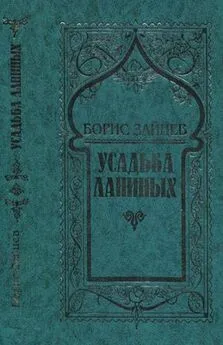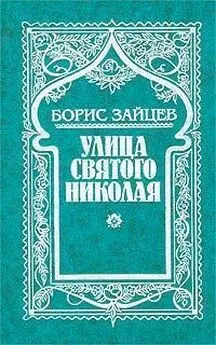Борис Зайцев - Том 5. Жизнь Тургенева
- Название:Том 5. Жизнь Тургенева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00402-6, 5-268-00429-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Том 5. Жизнь Тургенева краткое содержание
В пятом томе собрания сочинений выдающегося прозаика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Зайцева (1881–1972) публикуются его знаменитые романы-биографии «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), «Чехов» (1954), а также статьи об этих писателях, дополняющие новыми сведениями жизнеописания классиков. Том открывается мемуарным очерком известного философа и публициста русского зарубежья Федора Степуна.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 5. Жизнь Тургенева - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Слезинка ребенка у Достоевского имеет мистический оттенок. И символический смысл – образ мирового страдания. Чехов вообще любил детей, прекрасно писал о них, но совсем по-другому, без гигантских размахов, без истерики и мелодрамы, владея собой. А по силе пронзительности мало чем уступает.
Хоронят жену поселенца, уехавшего в Николаевск. У могилы четыре каторжника, черкес – жилец покойной, Чехов, казначей и баба каторжная. «Эта была тут из жалости: привела двух детей покойницы – одного грудного и другого Алешку, мальчика лет четырех в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю:
– Алешка, где мать?
Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит:
– Закопали!
Каторжные смеются; черкес обращается к нам и спрашивает, „куда ему девать детей, он не обязан их кормить“».
Но предстояли ему на Сахалине зрелища и другие.
Достоевский стоял сам на эшафоте, испытал каторгу. Толстой видел в Париже казнь. Тургенев тоже, там же; и написал «Казнь Тропмана». Все наши отцы стеной стояли против зверства. Последний классик – Чехов, замыкает ряд. Но ему выпало другое. Он присутствовал не при смертной казни, а как называли в старину «торговой», в сущности при мучительстве: наказании плетьми (каторжника, провинившегося уже на Сахалине).
Все он видит, наблюдает… Как художник и врач не упустит и черточки. Все вопли запомнил, все хрипы, судороги. Когда не в силах уж был выносить, вышел, но всегда сдержанный, попутно зарисовав кое-кого (жуткая зарисовка). Вернулся к концу этих сорока плетей, опять ничего не упустил. Но потом несколько ночей мучили его кошмары, мерещился «палач и отвратительная кобыла».
Вот и исполнилось, о чем писал он Суворину, перед поездкой: два-три дня в ней, о которых всю жизнь не забудешь. Об этих не забудет, а постарается не вспоминать. О голубеющих водах Байкала, бирюзе и прозрачности их вспомнит, может быть, и пред смертью.
Радуешься за Чехова, когда покидает он, наконец, этот проклятый Сахалин. Плывешь с ним вместе осенью на пароходе «Петербург» мимо Японии, Китая, через разные Гонконга, Сингапуры, на Цейлон, Суэц и архипелагом в Одессу. Это уже жизнь, что-то естественное и человеческое, хоть и проникнутое иногда глубокой горечью. «Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал».
А сколько и необычайного! Цейлон – место, где был Рай. Красное море, хотя и унылое, но ведет к Синаю. («Я умилялся на Синай».) «Хорош Божий свет. Одно только нехорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения».
Литература получила от путешествия на Сахалин конец замечательного «Убийства», рассказы «В ссылке» и «Гусев».
Простое сердце – солдат Гусев, смиренный русский человек – и вечный обличитель неправды Павел Иваныч, оба в последней полосе чахотки, плывут на родину, на том же, надо думать, пароходе Добровольного Флота «Петербург», что и Антон Павлович Чехов, тоже туберкулезный, ему дольше жить, чем им, но не на очень много. Думаю, он навещал их, беседовал, лечил вместе с доктором Щербаковым. Вот эти две русские фигуры, Гусев и Павел Иваныч и наполняют небольшой рассказ, полный такой скорби и такого жаления, без капли сентиментальности. Гусев принимает смерть в вековом крестьянском спокойствии, до конца вспоминая детей, деревню, хозяйство, родителей. Павел Иваныч до конца возмущается несправедливостями жизни – оба один за другим умирают, обоих зашивают в парусину и спускают в море. «По пути в Сингапур бросили в море двух покойников» (Суворину). Это, конечно, Павел Иваныч и Гусев. Оттого и было так грустно у Сингапура («чуть не плакал»). «Становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море».
«Гусев» был напечатан в том же, 1890 году. «Убийство» помечено 95-м годом. Художнически это из высших чеховских достижений. Действие происходит в России, но история преступления, всего вероятнее, вывезена с Сахалина. Последние же страницы – Сахалин целиком. Их бы и просто переписать сюда, но не удержишься и перепишешь весь рассказ о богобоязненном уставщике Якове Ивановиче (убившем, однако, брата) попавшем на Сахалин. Странным образом тот Антон Чехов, который не весьма любил Достоевского, пошел тут даже дальше Достоевского. Правда, у Якова Иваныча и у Раскольникова подготовка неодинаковая. Все же Раскольников после каторги только продолжал стоять на пороге, Яков же Иваныч окончательно все решил, каторга все ему открыла. «С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов… и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно Ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий… у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги».
«Простой веры» не было у самого Чехова и по ней он (бессознательно) тосковал. Но «как должно служить Ему» – это сидело в нем прочно. Обратно тому, что о нем думали в 80-х годах, в Чехове не было равнодушия и безыдейности. Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентное в нем не для него. Природно в Чехове, совсем «Чехов» – это соединение Второй Заповеди с добрым самарянином. «Возлюби ближнего твоего» и действенно ему отдайся – вполне Чехов этой полосы. Внеразумное, от горнего света, проблескивает только в последних его произведениях.
«Сахалин» он писал в 91-м году (и позже), книга упорно сидела в нем, радости не дала, но было, конечно, чувство, что надо все кончить и доделать. Он и доделал, но это сторона внешняя, – хоть и необходимая. Как внешни, и тоже необходимы были заботы о том, как бы устроить на Сахалине библиотеку, как бы, с Кони вместе, через Нарышкину, добраться до Государыни и убедить ее устроить на Сахалине приют для детей поселенцев. Все это он добросовестно и проделал, послушание выполнил до конца.
Внутренне же поездка произвела на него действие огромное. Мало об этом он прямо распространяется (раскрывать себя не любил). Все же в письмах кое-что есть.
«Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!» (Суворину). «…Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки „Крейцерова соната“ была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума, черт меня знает».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: