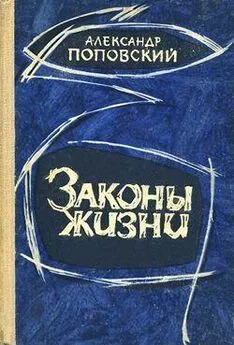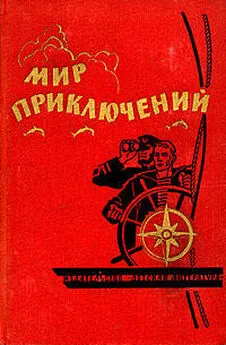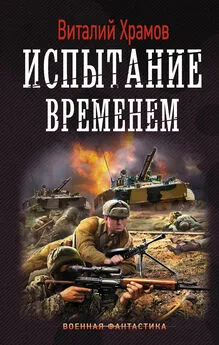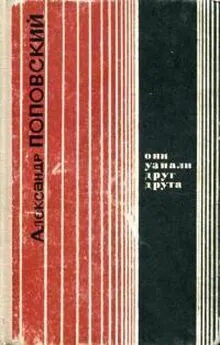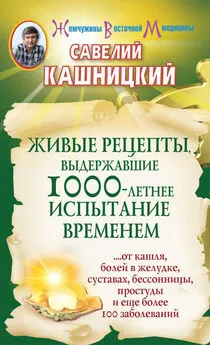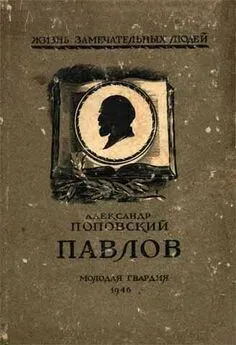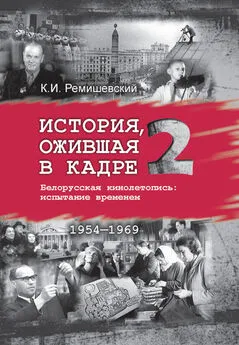Александр Поповский - Испытание временем
- Название:Испытание временем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Поповский - Испытание временем краткое содержание
Действие романа «Мечтатель» происходит в далекие, дореволюционные годы. В нем повествуется о жизни еврейского мальчика Шимшона. Отец едва способен прокормить семью. Шимшон проходит горькую школу жизни. Поначалу он заражен сословными и религиозными предрассудками, уверен, что богатство и бедность, радости и горе ниспосланы богом. Однако наступает день, когда измученный юноша бросает горькие упреки богу и богатым сородичам.
Действие второй части книги происходит в годы гражданской войны. Писатель откровенно рассказывает о пережитых им ошибках, о нелегком пути, пройденном в поисках правды.
А. Поповский многие годы работает в жанре научно-художественной литературы. Им написаны романы и повести о людях науки. В третьей части книги он рассказывает о том, как создавались эти произведения, вспоминает свои встречи с выдающимися советскими учеными.
Испытание временем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так ли животворны твои сокровища, чтобы продлить их век? — сомневается вечно бдительное благоразумие. Смерть и забвение порой более благодетельны, чем бессмертие, занесенное в анналы истории… Кто знает, обрадует ли наследников этот дар? Ведь потомкам не впервые платить предкам неблагодарностью.
Быть достойным наследодателем — немалая честь, но всякое ли наследие плодотворно? Сколько лучших побуждений великих умов обращалось в оковы для человеческой мысли? Кто позавидует славе Птолемея, чьи заблуждения затмили разум потомков на тысячу лет, навязав им учение о неподвижной земле — центре вселенной? Сколько откровений, изжитых временем, все еще осаждают сознание людей, хоть давно пробил час их забвения. Всегда найдутся умы — робкие или корыстные, — которым мертвая истина милее живой, готовые высоко вознести пережиток. Им ли не знать, что тело, низвергнутое с большой высоты, ничего от своего падения не выигрывает.
Не лучше ли довериться времени? Ему дана власть воскрешать забытое, возвращать человечеству утраченные сокровища. Правда, иное воскресение порой затягивалось на века и не часто поспевало к смертному ложу творца… Сколько неправедно обойденных имен и дел, навеки забытых! Время, конечно, хранит память о минувшем, бережно отделяет семена от плевел, и все же не грех и времени напомнить о себе. Долг человека — из гостеприимного дома ничего с собой не уносить. Пусть за гробом решают, каково наследие. Такова цель, — лишь выполнив ее, мы вправе спокойно расстаться с собой.
Снова сомнения: о какой цели идет речь? Чьей непререкаемой волей она отпущена нам? Уж не природа ли об этом позаботилась? Мы свое назначение с ней понимаем по-разному. Человек не сын полей и лесов, не обитатель океанов земного и надземного, он — порождение людей, и лишь те его цели хороши, которые полезны человечеству. Обделенный природой врожденной целью, человек ищет и находит ее, чтобы, следуя ее заветам, не отстать от своего времени и устремлений эпохи.
И у моей старости свои капризы и слабости. Одно время она тешилась тем, что у каждой поры свои радости, а больше всего их у зрелости. Великое просветление осеняет старцев, все ясно и продуманно, загадки разгаданы, и блужданию пришел конец. Благодатные годы! Катон восьмидесяти лет изучал греческий язык, Бернард Шоу в девяносто писал свои комедии. Поделиться тем, что мы в жизни обрели, никогда не поздно, а не доведется — кто из ушедших в вечность не посетовал на то, что многое, увы, не завершено.
Моя покорность року сменилась непокорством и раздумьем. Не рано ли зашла о старости речь? О ней судят по записям в метрической книге, по морщинам на лице, а ведь корни ее глубже. Исподволь хиреет тело, старятся руки и ноги, стройность сменяется сутулостью, где эти спутники увядания: упадок телесных и умственных сил, неуемная жажда покоя, безразличие к судьбам своих и чужих и даже всего человечества? Я по-прежнему тружусь, и не потому, что домогаюсь запоздалой славы, и даже не затем, как уверял Моэм, чтобы облегчить бремя души и тоску по зримой красоте.
Одно время казалось, что с памятью моей неладно, слишком многое от нее ускользает. Верный друг и хранитель словесных богатств мне более не верен, что-то будет? И этому нашлось утешение: в продолжение нашей жизни, рассудил я, умственная деятельность проходит различные состояния: пора юности — когда впечатления осаждают ум и трудно направлять мысли по нужному руслу; другая, более счастливая, — ум постиг искусство отбирать нужное и отсеивать излишнее; наконец, третья, — зрелость и старость, — механизм, приученный чинить отбор, начинает действовать по собственному произволу. Не мы решаем, что следует запомнить и сохранить, за нас решает он, обедняя сокровища нашей памяти. Остальное довершают руки, они хозяйничают на свой лад. Где уж нам запомнить, куда делись нож и очки, когда их прибрали безответственные руки.
Утешившись мыслью, что до преклонных лет далеко и с наследством торопиться незачем, я порадовался и тому, что при жизни еще увижу, сколь долговечен мой дар, завещанный людям. У всякой истины свой короткий век, непогрешимое сегодня спустя пятнадцать лет себя, возможно, изживет, и нечего будет наследовать.
Убеждение долго не продержалось. Из черного хода сознания поползли лукавые советы. Спасать нетленные сокровища действительно рано, но почему историю творческих исканий не написать для себя? Никто, кроме меня, эту летопись не прочитает, я буду единственным читателем ее. Кто знает, не послужит ли она мне на пользу? Взглянуть на прошлое, чтобы заново осмыслить его, — нет лучшей школы на свете. Не значит ли это одной рукой торжественно излагать посмертные надежды, а другой, забавы ради, перелистывать былое, уподобиться Моэму, который, подводя итоги, написал: «Пусть читатель не сетует, если в книге ничего полезного не найдет, писателю нет дела до требования читателя». Неправомерный расчет! Свобода предполагает исполненный долг, возмещение обществу издержек за преподанные знания, за совершенство разума и чувств. Писатель не орел, витающий в облаках, его творчество не праздная разрядка энергии. Его священная обязанность — хранить верность своему времени и взмахом бича или страстным призывом увести заблудшего от ложного пути. И в дни молодости и в старости никто за него не исполнит его назначение.
Не радость зрелых лет удел старости, не самодовольная память о заслуженной славе, а долг отстоять все, что пригодится живым, не дать тлению поглотить нетленное.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В ночь под рождество тысяча девятьсот двадцать четвертого года в одном из клубов Ростова-на-Дону антирелигиозный кружок отмечал наступающий праздник. Огромные афиши у входа и на дверях оповещали, что в семь часов вечера будет инсценирован суд над христианством по литературному сценарию руководителя кружка. Обвиняемые: апостолы Петр и Павел, Мартин Лютер и историк Иосиф Флавий, свидетели — император Нерон и папа римский Павел Третий. Группу свободных пролетариев исполнят статисты.
Действующие лица были подобающим образом загримированы и облачены в духе эпохи. Председательствовал на суде автор своего литературного первенца.
Было зачитано обвинительное заключение, списанное со страниц «Азбуки безбожника», и отмечено в протоколе, что обвиняемые виновными себя не признали. Первыми допросили Петра и Павла. Апостолы утверждали, что никакого Христа они не знали и о делах его не ведают. Судя по обвинительному заключению, это был лжепророк, каких в ту пору встречалось немало. Никаких посланий римлянам, колоссянам и Тимофею они не писали, предпочитая устной проповедью общаться с верующими.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: