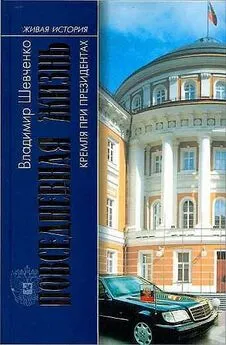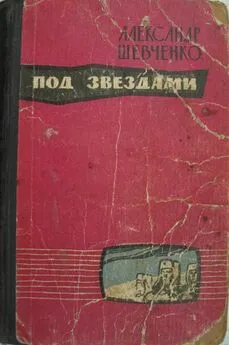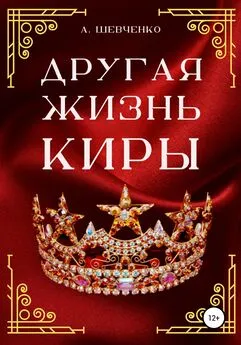Александр Шевченко - Всюду жизнь
- Название:Всюду жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шевченко - Всюду жизнь краткое содержание
В образе главного героя Федора Устьянцева, бетонщика, прораба на строительстве гидроэлектростанции в Сибири, автор нарисовал передового человека, строителя нового мира.
А. Д. Шевченко — автор романа «Терновая балка» и книги повестей и рассказов «Сполохи войны».
Всюду жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иван Гаврилович был один, обрадовался гостю.
— Давай-ка мы с тобой сначала пообедаем!
Федор сказал, что уже обедал в интернатской столовой, но учитель только улыбнулся и начал собирать на стол.
— Тебе второй обед не помешает! Жена сегодня ухи наварила, пельменей наделала… Садись, садись без разговоров!
После обеда учитель подошел к книжному шкафу, достал большую папку.
— Здесь мои фронтовые рисунки. Я ведь до войны два курса Московского художественного института окончил. На скульптурном факультете учился.
И тут — война!
Попал в противотанковую артиллерию наводчиком. Говорили, что глазомер у меня хороший, пушку точно на цель наводил. Наше орудие одних только танков пятнадцать уничтожило! — Учитель раскрыл красную коробочку: — Вот мои награды…
Федя с уважением рассматривал потемневшие от времени ордена и медали, а учитель объяснял:
— Это орден Красного Знамени — за рейхстаг. Это Отечественной войны — за Варшаву. Красная Звезда за Смоленск. Медаль «За отвагу» — первая моя награда за взятие безвестной деревушки Красная Вишерка под Новгородом. А это расчет нашей пушки, — показал художник пожелтевший рисунок, изображавший трех артиллеристов, сидящих на лафете орудия. — Прекрасные люди, храбрейшие солдаты!
— Да они тут как живые! — восхищенно заметил Федя.
Хоробрых хмуро уставился на рисунок и долго молча рассматривал, будто спрашивал о чем-то своих фронтовых товарищей.
— Как живые, говоришь? Нет, брат, никого в живых не осталось… Все полегли…
На кусках серой оберточной бумаги, а то и на листах из школьных тетрадок мелькали лица солдат, офицеров, санитарок, освобожденных мирных жителей, одетых в жалкое тряпье пленных гитлеровцев… Артиллеристы ведут огонь… Дивизион в походе… Памятник Шопену в Варшаве — лучшего учитель не видел… А это Германия — город Каммин на Балтийском море…
Наброски были сделаны талантливо, смело — Федя уже мог оценить их.
— Моя последняя цель — рейхстаг. Тридцатого апреля бойцы нашей дивизии пошли на штурм рейхстага. Гитлеровцы обрушили на нас яростный огонь. К тому же путь нам преграждал широкий ров, наполненный водой. Это был тоннель метрополитена, который строили открытым способом. Продвигаться приходилось короткими перебежками, укрываясь в воронках, которыми была густо изрыта вся Королевская площадь. Немцы пошли в контратаку. Тут на площадь выдвинулся наш дивизион и прямой наводкой ударил по фашистам. Вражеский фаустпатрон разорвался у моего орудия, заряжающего — наповал, а меня… вот… — художник притронулся левой рукой к пустому рукаву и поднял на мальчика глаза, полные тоски и боли. — Понимаешь, случилось это тридцатого апреля, когда война уже фактически кончилась…
Пришел в сознание после операции. Правой руки нет, левая в бинтах. «Что вы сделали? Ведь я же скульптор, художник, понимаете ли вы, что я не могу жить без рук, не могу! Убейте меня, убейте!» Кричу, зубами срываю бинты, а меня держат, утешают: «Вы истекали кровью, надо было спасать вашу жизнь!» — «А зачем она мне, моя жизнь, без рук? Зачем?»
Не знаю, как я остался жить, как не сошел с ума… Ведь я не то что лепить или рисовать не могу — я только через несколько недель научился держать карандаш вот этими огрызками, — он взмахнул левой рукой, — чтобы огромными каракулями написать письмо.
В госпиталь приехала моя невеста Оля. Я сказал, что не хочу связывать ее, чтобы она забыла меня. Рыдала, уверяла, что любит по-прежнему. Но все-таки в ее чувстве ко мне была и жалость. Она честная, добрая и пожалела меня. А это непереносимо знать. Но тогда я был в крайней степени отчаяния и ухватился за нее, как за спасительную соломинку. Тут я виноват перед нею… Одному легче переносить горе… И поехали мы подальше от искусства, от академий, музеев, выставок, моих преуспевающих друзей, чтобы не бередить душу невозможным для меня… И стал я на своей родине — я сам ведь из здешнего села Подъеланка, — как зверь в берлоге, зализывать свои раны… Думал, что хоть левой рукой смогу рисовать, — ничего не получилось. В голове роями теснятся лица, образы, композиции, не дают спать — а на бумаге выходит какая-то убогая, детская мазня. Не слушается меня рука. Врачи сказали, что перебиты какие-то нервы… Это самое страшное: не быть в состоянии, не мочь высказать то, что воображаешь, чувствуешь…
Федор вспомнил, как потрясен был исповедью художника.
Фашисты не просто руки у него отняли — они отняли возможность творить, выражать себя, то есть делать то, для чего он был рожден и в чем был смысл его существования, и обрекли скульптуры и картины, ежечасно, ежеминутно рождаемые его творческим воображением, навсегда корчиться в безысходных мучениях в тесной коробке его мозга. Жалость к художнику и ненависть к гитлеровцам смешались в нем в чувство такой взрывчатой силы, что он не выдержал, прижался лицом к его изуродованной руке:
— Проклятые фашисты!
Художник в замешательстве отнял руку и стал гладить волосы мальчика.
— Ну будет, будет… Извини, что я расчувствовался… Тяжко мне, Федя, очень тяжко…
И еще один вечер… Ученики пришли к Ольге Владимировне готовить роли в «Ревизоре». Жена художника преподавала в интернате пение и музыку и руководила школьной самодеятельностью. Это была худенькая белокурая женщина с тихими, поникшими глазами. Дети уселись вокруг стола напротив учительницы, раскрыли тетрадки и стали читать роли. Федя играл в пьесе городничего. Репетиция шла весело, под взрывы смеха. Можно десять раз читать бессмертную комедию, а все равно не удержишься от смеха, когда вновь читаешь ее.
Федя показал Ивану Гавриловичу эскизы костюмов для спектакля. Тот перебрал рисунки, одни одобрил, другие покритиковал.
— Какая же это дочь городничего? Прическа не та, и платье не такое — тогда богатые женщины носили кринолины… — Он взял карандаш и стал исправлять рисунок, но рука его дрожала, плохо подчинялась ему, у художника получалось не то, что он хотел изобразить, и он нервничал. — Это же очень просто! Рукава буфами, талия затянута, а юбка колоколом…
Федя переделывал эскиз, но, видно, не так, как объяснял учитель, и тот в нетерпении вдруг раздраженно закричал:
— Неужели это тебе непонятно?
Он с силой черкнул по рисунку, сломал грифель, разодрал карандашом бумагу и швырнул его на пол.
— Прости… Не слушается меня рука…
Художник растерянно сжался, устыдившись своего крика, и замер, сгорбив спину, и покаянными глазами исподлобья оглядывая испуганных его окриком детей, и тут все увидели, как на темных, нервно подрагивающих щеках Ивана Гавриловича сверкнули слезы, и замерли, потрясенные горем учителя.
Хоробрых резко поднялся, накинул пальто, схватил шапку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: