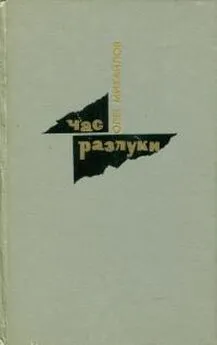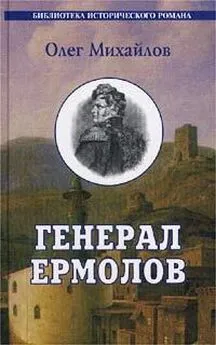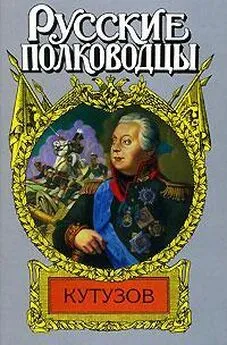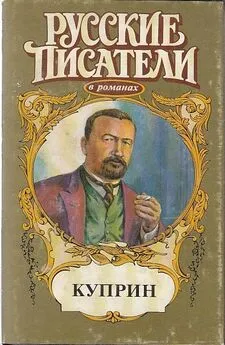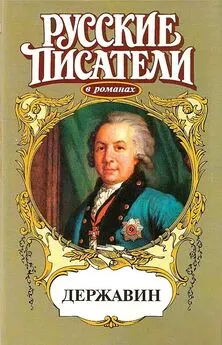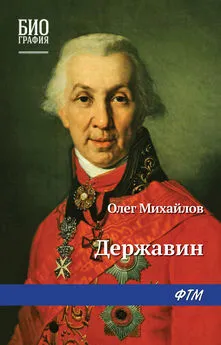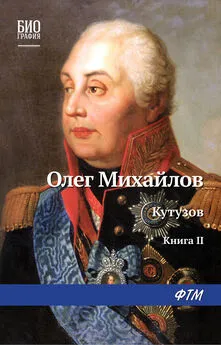Олег Михайлов - Час разлуки
- Название:Час разлуки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Михайлов - Час разлуки краткое содержание
Час разлуки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Бьет… Нет, бьет… Есть электричество!..
Особенно страшна была первая комната с дополнительным оконцем на темную кухню, с пыльным подоконником и словно стремившимися вырваться из крошечных банок долговязыми столетниками, которые бабка поила спитым чаем. Бабка, прожившая почти до ста лет, в Москве провела полвека, но так и не ходила никуда дальше Тишинского рынка. Она и служила лет до девяноста — все ночным сторожем в военном ателье, которое помещалось в подвале того же дома; спала на столе закройщика, подложив ватник и укрываясь недошитой генеральской шинелью. С годами она заметно менялась, и в девяносто была иной, чем в семьдесят, — тугие, как у свернутой жгутам мокрой простыни, морщины постепенно разглаживались, кожа на лице подсыхала, натягивалась, глаза тускнели, а вот волос, хоть и редкий, оставался черным. Седина ее не брала. Лет до восьмидесяти бабка могла выпить водки, потом — только кагору и то немного, жила же на одном чаю свирепой крепости, никогда не пользовалась остывшей заваркой, а делала всякий раз новую. Любила рассказывать о себе, о своей жизни — себе же самой, сидя в уголку, на постели, покрытой засаленным лоскутным одеялом, и раскачиваясь. Когда выпивала, иногда пела песню, одну и ту же — «За мной, мальчик, не гонис… А погонисса за мной — потеряешь свой спокой…». Она, очевидно, ходила когда-то, в незабвенные времена, в школу, но недолго. По крайней мере «Попрыгунью-стрекозу» помнила наизусть и охотно рассказывала, но не как стихи, а как свое, родное. Еще любила рассказывать, как девкой повстречала в лесу русалку: «На березе сидить да так и летает по суку туда-сюда: «И-их! И-их!» Я корзину с грибами бросила — и бечь!» — «А отчего, бауш?» — «Как, отчего? Поймает, не хуже, — защекочет!» В войну наотрез отказалась уезжать из Москвы, вспоминала: «Сижу одна в фатере, вдруг, не хуже, застучели. Я цепку накинула, смотрю — военные. Я им: «Вы русские ай немцы?» Они смеются: «Русские, мать, русские». — «А я, говорю, кирпичей натаскала на окно. Придут немцы — кидать буду». — «Значит, не боишься смерти?» — «Не́-а!» Смерти она, правда, не боялась. Поражала простота, обыденность ее обращения со смертью, спокойные разговоры о месте на Ваганьковском кладбище, об отложенных на отпевание деньгах. А перед смертью не заболела, а сразу ослабла. За день до смерти она встала и, как была в носках, резко направилась ко входной двери. «Да ты куда?» — спросил ее сын. «Да в деревню». Умерла она как раз на Николу Зимнего, в день именин сына.
Кровать сына была в той же комнате, где стояла ее старенькая железная койка под украшенной бумажными розами иконкой. С продавленной до полу панцирной сеткой и выломанными в спинке прутьями, чтобы можно было просовывать ноги (под них подкладывался табурет), она, кажется, никогда не пустовала, вмещая в себя огромное, стотридцатикилограммовое тело Мудрейшего. Мудрейший ложился рано, накрыв голову для сугрева старой меховой шапкой и выставив из-под одеяла кончики ног; перед сном добродушно говорил себе: «Пора потренироваться в смерти…», просыпался поздно, шел за завтраком, после еды валился на стонущую от его тяжести постель с книжкой, с книжкой засыпал; там обедал; перед ужином смотрел телевизор в комнате бывшей жены, и все начиналось сызнова. Любимейшие его слова были: «ерунда» и «смажу». Когда следил за матчем своего «Спартака», скоро начинал сердиться на судью, пыхтел и, наконец, не выдерживал, рычал, наклоняясь к экрану: «Сейчас смажу!» По утрам спрашивал бывшую жену, у которой за окном был градусник: «Как там на улице?» — «Пятнадцать ниже нуля». — «Ерунда. Не пятнадцать, а шесть». — «Да вот градусник!» — «Врет твой градусник, я в «Правде» прочел — шесть!»
И еще Мудрейший пел. Это было единственным утешением в его старой, одинокой и неудавшейся жизни. Он пел днем, утром, ночью, с книжкой или ложкой в руке, пел за готовкой нехитрого обеда в крохотной темной кухоньке и лежа в ванне, заполняя ее своей растекающейся плотью, пел в лесу за сбором грибов и в кинозале, если фильм начинал надоедать ему, ради пения готов был схватиться и бежать на край света. Он пел арии и целые оперы; пел строевые военные песни разных времен — от разученной в Александровском юнкерском училище «Взвейтесь, соколы, орлами…» и до «Священной войны»; пел русские народные и украинские, безбожно корёжа «мову»; пел романсы Глинки, Даргомыжского, Рубинштейна, Чайковского, Рахманинова, Шумана, Кёнемана, Бакалейникова; фривольные песенки Пергамента и Чуж-Чуженина, Бориса Фомина, Слонова. И свои родные, крестьянские — смоленские, вяземские.
Плывет селезень по реце,
Пустил носик по воду,
Эх, да плывет селезень по реце,
Д’ пустил носик по воду…
— Дозволь тятенька, жениться,
Дозволь взять, кого люблю!
Эх, да дозволь, тятенька, жениться,
Дозволь взять, кого люблю!
Они у него получались всего лучше, выпевались светло и чисто, брали за душу. Они даже повергали обитателей квартиры в недолгое состояние мира и согласия.
— Не позволю, не поверю,
Что на свете есть любва,
Эх, да не позволю, д’не поверю,
Что на свете есть любва.
— Пойду с горя утоплюся
Супроть милого крыльца…
Чтобы лучше слышать себя, подставлял левую ладошку к уху, пускал звук, от которого слабо дребезжал, прося пощады, стакан на неприбранном, под липкой клеенкой столе. У Мудрейшего был сочный, беспредельных возможностей бас-баритон, но мешал ему весьма неважный слух. Порою, чтобы начать новую арию или романс, он несколько раз бросался на приступ и бессильно откатывался, не взяв нужной ноты. Ловил ее мощным звуковым пучком — как прожектор чужой самолет, — промахивался, подымался и тяжелою ступою шел через среднюю, проходную и самую большую комнату к бывшей жене.
— Валентина! Я ноту возьму…
С грохотом открывал крышку старенького концертного рояля, занимавшего полкомнаты, опускался на стул.
— Раздавишь, Николай! — вскакивал муж Валентины, отставной профессиональный тенор, день-деньской ходивший по квартире в одном нижнем белье. — Дай ему, Валя, табурет.
— Ерунда! — рокотал Мудрейший, но пересаживался, зажмуривал глаза, подставлял ладонь к уху, тыкал пальцем клавишу, и…
— Николай! Ну нельзя же так! Ты не поешь, а кричишь! — вскипала Валентина. — Если не жалеешь свои связки, то хоть сыну дай спокойно позаниматься…
— Ерунда! А как же Белинский? У него, что, лучше были условия?
И с обретенной нотой, повторяя ее мощными вскриками, Мудрейший удалялся к себе на постель.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: