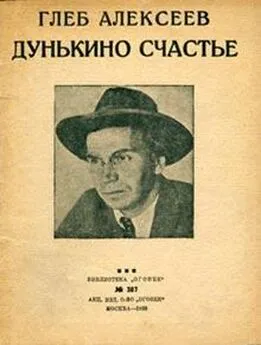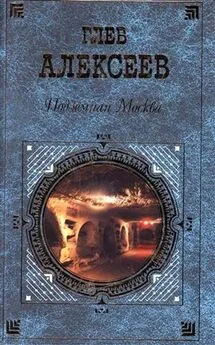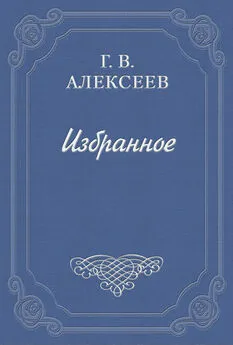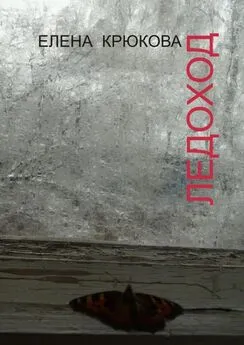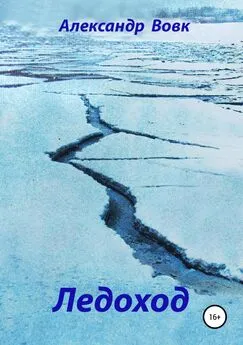Глеб Алексеев - Ледоход
- Название:Ледоход
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Правда»
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-253-00005-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Алексеев - Ледоход краткое содержание
Ледоход - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне потом сказали, что без памяти я пролежал целый час, а когда очнулся, нашел на себе теплые, дрожащие руки и, не открывая глаз, догадался, что они Наташины. Оправившись от болезни, я стал говорить ей «ты» — и как товарищу, и как жене. Она же мне первая и рассказала, что садануло льдиной в четвертом часу утра, что на мое место встали двое и справились с работой не хуже, что Донецкий отдал свою пролетку, чтобы немедленно везти в больницу на северный участок, и что в больнице, когда перевязали и положили в отдельную комнату на чистую койку, она захотела остаться, а фельдшер не хотел разрешить.
— Ну-у? — удивлялся я. — С чего же это он?
Тут она краснела и опускала глаза, а мне было дорого ее смущение.
— Ну, никак, никак! — повторяла она.
— С чего же это он, сука! — продолжал допрашивать я, притворяясь, что не знаю об этой истории.
— Только, — говорит, — жене да матери наш больничный устав разрешает оставаться из женских родственников всего мира. У нас, — говорит, — свои женщины есть — сестры милосердия и няни.
— Вот жук! Ну, жук! — притворно возмущался я, а сам холодел от наступления счастливой минуты всей моей жизни. — Ну, а ты чего?
Я ждал ее ответа, опуская глаза. Не мог я смотреть в ту минуту в ее глаза, и она в эту минуту не могла поднять свои глаза. И видел ее руки: они теребили одеяло, они совсем не знали, куда себя девать.
— Ну, я и сказала… — насмеливалась она вдруг и осекалась.
— Что сказала? — продолжал я, давясь словами.
— Сказала, что я — твоя жена! — выпаливала она сразу и прикрывала глаза руками, выворачивая ладошки кверху.
Эту историю я заставлял ее рассказывать по нескольку раз в день.
То ли удар этот, то ли что с Наташей у нас объяснилось все начистоту, или что плотину удержали, только с тех пор ни разу не вспомнил я ни о мыслях своих страшных, ни о Кулешове, ни про дом, ни про отца с матерью. Одним ударом в грудь вышибло вчерашнее. И даже про то не подумал я, что, если прошла вода за красную линию, как наметили разлиться ей гидротехники, ничего от дома моего родительского не осталось. Какая забывчивость вдруг пала на мою голову! Иль маменькины руки головы моей частым гребешком не вычесывали? Или отцовы вожжи не учили мужицкого уму-разуму? Иль не готовился я, разъединственный любезный сын, повторить судьбу их, принять от них немудрое мужицкое наследство? Иль не я, а другой кто сидел на завалинке в никчемушний вечерний час, пока мать собирала ужин, да раздумывал, что ожидает доброго молодца, что судьба ему прорицает, какую суженую даст? Я в дому единственный работник был, по той причине в Красной Армии не служил, а как было на земле добывание пролетариатом своих прав, был одиннадцатилетним малолетком. Грамоте я только буквы знал, научили плотники топорами матерные слова тесать. И был тогда у меня дед, материн отец, жил с нами за корку хлеба, цыплят от ворон стерег — сивый, страшный, из ушей зеленый мох торчит, и коленки у него всё в стороны разъезжались — вот-вот упадет. Как пришла к нам свобода, приехал оратор из соседней волости, все мужики ходили с флагами из села в село, и все работать побросали, не знали, что и делать от радости. А мы вдвоем с ушастым дедом написали камнем на дороге: «Да здравствует свобода», — и дед заставил меня беречь надпись, чтоб не смыло ее дождями, чтоб люди не затоптали. Но сторона наша глухая. Слышали вы, конечно: графа Бобринского все эти места, где плотины теперь, где Шат, и Дон, и Любовка текут, — все было его, приказчики графские, верные псы, жали из нас пот, как бабы мокрое белье. Со свободой власть сменили, просторнее пришлось народу жить, а быт наш темный во многом оставался, как был, со времени самого Иисуса Христа. Церковь да водка, водка да церковь, в карты засядут играть с вечера субботы до понедельника: на базар ехать, телок за проигрыш вести. Коллективизация коснулась нас мало, перегибов у нас не было, а сами мужики насчет колхоза туго относились: выгоднее — верно, да ведь как в один узел вековую вражду соседей, кумовей, сыновей, брошенных мужьями дочерей, пьяниц, картежников и лодырей — как их в один узел завязать, за один стол посадить, к одному горшку со щами допустить?! Я по себе знаю, что должен человек лучше стать. Нельзя, чтобы земные годы шли, а люди по-прежнему, как звери, жили. И разве не осточертела деревне такая жизнь, не давит ее по самый загривок в землю? Не хочет мужик лучшей жизни, какая становится на всей русской земле? Плюнь в глаза тому, кто скажет, что мужик не хочет. А вся беда в том, что наш русский мужик от заднего ума по жизни ходит: гнать его в колхоз будешь — упираться будет, не пускать будешь — сам попрет, да как! Бегом! Знаешь, например, как в бывшей моей деревне после декрета о колхозной торговле в колхоз поперли? Ну, сейчас, правда, пена идет — накипь, что под колхозным видом о купеческом брюшке мечтает и на второй нэп поворачивать хочет! Да ведь только сойдет и накипь, а пены бояться — щей не хлебать.
Чудно мне, что родителей я не вспоминаю, не вспоминаю, а они вот они. На третий день в больницу проведать пришли. Деревенские наши рассказали им, что подшибло льдинкой, и что не опасен я жизнью, и что, должно быть, награды ждать надо. Мать, как вошла, все правила деревенские сразу выложила: руку на щеку, голову набок, глаза прикрыла, хоть и видит, что сижу я на постели и ручкой им на стул указываю, — и голосить. Отец стоит молча, ждет, пока баба отголосит, — правило такое. Однако Наташу враз приметил, спрашивает:
— Это кто ж такие будут-то?
— А жена, — отвечаю, — жизнью мне данная жена.
Мать голосить перестала враз, как ножом отрезала, глазами впилась, по-щучьи, без отрыва. Однако молчит: прежде отца слово сказать не решается. И слово-то по-нашему, по-деревенскому, предстоит сейчас не простое, а первое слово, что всю жизнь решить обязано.
И отец, вижу, понимает, что первое слово ему говорить. Руку в загривок запустил, а смотрит себе на ноги. А что ж на ноги! Известно: на ноги грязь налипла.
— Так! — говорит. — Вот оно, значит, культура-то!
Исподволь, видишь ли, издалека подходить начинает.
«Ну-ну, — думаю, — путешествуй, тебе виднее, как на мой жизненный план отозваться».
— Месяца, — говорит, — проработать не успел, а образовался полностью. Сапоги новые загубил, в ударники вышел, женой обзавелся. Эдак, — говорит, — соколу ежели лететь, и то не успеет.
— Вы, — говорю, — папаша, меня не так поняли. Они не женой мне приходятся, поскольку мы еще не расписались по случаю моей болезни и в родственные отношения не вступили, а невестой. Но это, говорю, все едино. Плотина и многие обстоятельства жизни связали нас крепче грецовского попа и владимирской божьей матери.
За всю жизнь не слыхал он злее слов от меня, чем эти. Понимаешь, товарищ дорогой, как приговор они ему были. Для твоего уха как бы ничего не сказал я, а он — мужик: для его уха каждое слово, как рояль, звучит. Мне на политзанятиях объяснили, что все, значит, слова, какие употребляет отсталый единоличник, составляют восемьсот. Как же тут каждому слову не звучать, как рояль! И понял он: первое, что из воли отцовской выхожу, и второе, что не успокою его старости, а по новой дороженьке, по той самой, что для многих в нашей деревне острее ножа, наставляю ноги для пути. С лица сменился сразу, будто незрелой смородины отведал, а только не глуп он, родитель мой: ни виду не подал, ни слова худого не сказал, а сдался сразу, как давеча ледовины мне сдавались, когда я лом на них кидал. А ведь я и впрямь ломом ему в грудь кинул!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: