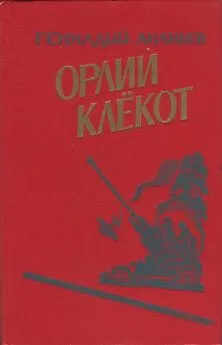Анатолий Ананьев - Межа
- Название:Межа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ананьев - Межа краткое содержание
В романе «Межа» затрагиваются нравственные и социальные проблемы, герои романа размышляют о добре и зле, о месте человека в жизни. Через сложные судьбы героев раскрывается богатство нравственного мира простого советского человека.
Межа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Ну что ж», — останавливаясь и как бы подытоживая все свои размышления, проговорил Богатенков и опять посмотрел на часы. Ему хотелось, не откладывая, сейчас же решить все, но Потапов не появлялся, а подошедший дежурный сказал, что ждать уже больше нечего, и Богатенков, еще раз повторив: «Ну что ж», — вышел в коридор. Он спускался по лестнице быстро, глядя себе под ноги, так же быстро прошел мимо постового и, сев в машину, сухо и строго сказал шоферу Павлику:
— В отделение!
VIII
В седьмом часу Богатенков приехал домой. Когда он вошел в комнату, он чувствовал себя настолько усталым и разбитым, что, не переодеваясь, а лишь сняв и повесив китель на спинку стула, прилег на диван, и так, не меняя позы и не замечая, что затекают и немеют руки, пролежал около часа. Он ждал Николая и думал о нем; и думал о Даше; и думал о себе самом. Ему было жаль утраченного спокойствия и уверенности, так необходимых каждому на склоне лет. «Ну что бы ей не жить», — рассуждал он, возвращаясь к той своей несложной житейской философии, которая теперь представлялась ему единственно верной. От усталости ли, или оттого, что к сложностям, какие он испытывал на работе и какие уже сами по себе требовали от него немалого напряжения, прибавилась еще эта забота — болезнь сестры (к тому же теперь не было ее перед его глазами), он думал почти противоположное тому, что он думал о ней в палате; ему казалось, что при всех тех ошибках, какие он видел теперь в своих отношениях к Даше, он все же сделал для нее многое, хотя бы уже то, что она не нуждалась ни в чем, и она могла бы добром, а не этим отплатить ему. «В самом деле, что я мог сделать для нее большее, чем сделал, рассуждал он. Она сыта, обута, одета, ухожена, у нее нет никаких забот, кроме домашних, и Николай уже вырос, уже большой, самостоятельный, только и жить теперь, ни тревог, ни волнений», — думал он. Но когда Богатенков, уже переодевшись, в домашней куртке и мягких туфлях вошел на кухню и когда увидел уроненный Дашей флакон с уксусной эссенцией, все так же лежавший на полу, и муку на столе, и противень с уже засохшими и потемневшими пельменями, он опять почувствовал острую жалость к ней и опять с прежним беспокойством подумал, что если бы все же был повнимательнее к ней, как в первые годы, когда забрал из госпиталя к себе, ничего этого не случилось бы теперь.
Он не стал ничего прибирать на кухне, только поднял с пола порожний флакон, повертел его в пальцах и швырнул в мусорное ведро. Ему хотелось дождаться Николая и поужинать вместе с ним; и хотелось успокоиться. В кабинете, на столе, лежала рукопись, еще утром оставленная Николаем для него, и Богатенков, вспомнив о ней, прошел в кабинет и сел за стол.
Но он не сразу начал читать, потому что перед глазами все еще как бы стояло заплаканное лицо Даши; лишь постепенно, переворачивая страницу за страницей, он почувствовал, что все более отходит от мыслей о Даше и вникает в рукопись Николая. Ему было интересно читать то, что написал его сын, и любопытство тем сильнее разгоралось в нем, чем более он углублялся в чтение. Незаметно для себя он как бы перемещался в Федоровку, далекую и глухую российскую деревню, о которой писал Николай и в которой было в свое время около двухсот дворов, а теперь едва набиралось восемьдесят; он пока читал цифры: сколько было раскулачено семей, как происходило раскулачивание, читал о том, что было знакомо ему, что он когда-то видел и пережил сам, но теперь, в пересказе сына, это представлялось ему настораживающим и странным.
Он читал:
«Избы в Федоровке как будто отнесены далеко одна от другой. Но дело здесь не в широте крестьянской натуры, не в обилии земли, наконец, не в алчности — подгрести под себя побольше; когда-то, как говорят старожилы, деревня выглядела по-иному, избы стояли плотнее, а улица тянулась на две версты, до самой протоки, с тех пор обмелевшей и заросшей камышом. Теперь же на тех местах, где стояли избы, черными кудрявыми островками виднеется крапива и бурьян. Кстати, удивительно буйно растет эта трава на развалинах.
Когда же и как пустела деревня, уходил из нее настоящий, знающий землю хлебороб?
Шесть изб было заколочено в 1905 году, во время японской войны — кости кормильцев приняла маньчжурская земля, а солдатки с детьми, прижатые нуждой, двинулись с сумой по дорогам России; еще больше было заколочено в первую мировую, и опять — солдатки и сироты; потом колчаковщина, и снова пылают мужицкие избы… Все это, конечно, история, но вот что говорит старый Минаев, у которого я стою на квартире:
— Когда-ть надо, народом стоим, землю защищаем, а вот когда-ть не надо, зачем же губить людей?
— Это «когда-ть» не надо? — спрашиваю я.
— Когда-ть хозяевов разгоняли. Взять, скажем, деда моего. Он имел десятин двести земли и управлялся, и каждый год, бывало, обоз за обозом на ярмарку в Белодворье отсылал, только снежок за санями. Ну, батраков держал, так и кормил их, обувал и одевал, можно сказать, все на полном пайке. Раскулачили его, отобрали все да и все сгубили. На другой уже год, почитай, — и кони порчены, и сбруя в клочьях, и виноватого нет. Это все на моих глазах было. А главное, человека сгубили, хозяйственного человека. Немец, что ли, он на русской земле? Он ведь как говорил: «Дайте мне в руки хозяйство, хоть колхозом назови, хоть как, но под моим началом, — завалю хлебом. И тут ты не трожь меня…»
Переворачиваемые страницы шелестели в крупных и сильных пальцах Богатенкова. Он сидел тихо, склонившись над рукописью, и лицо его, освещенное матовым и неярким светом лампы, казалось неподвижным. Но чем более он вчитывался и чем более задумывался над прочитанным, тем сильнее охватывало его беспокойство. Беспокойство это было иным, чем то, какое он испытывал, ожидая в приемной полковника Потапова, и происходило оно не от сознания собственного неблагополучия или, наоборот, благополучия, беспокойство это было отражением тех мыслей о Николае и его работе, какие возникали в нем теперь. «Какая же это история? Да так ли все было? Он бы завалил хлебом, но только себя, свои амбары. Как говорит-то: немец, что ль? Пожалуй, и хуже, если пристальнее взглянуть. Ведь как все было…»
Было морозно и солнечно; снег, шедший всю ночь и весь прошлый день, был так свеж и пушист и лежал на всем таким белым, мягким и искрящимся покрывалом, что нельзя было, не щуря глаз, смотреть на избы, баньки, амбары, на дорогу, дугой уходившую к лесу, на все, что попадалось и на что непременно хотелось взглянуть. Ниже и меньше казались избы, стоявшие по окна в снегу и по окна нахлобучившие свои соломенные и вдвое отяжелевшие крыши; дым от топившихся печей синими столбами поднимался над трубами; иней был на косяках, на фронтонах, на перилах, игольчатый и синий в тени, розовый и сверкающий на солнце; и ручки дверей обледенелые, и возле колодезных срубов свежие наледи от расплесканной воды, и плетни, как черные жилки на снегу, сбегающие к скованной льдом реке, и лошаденки в санях, мохнатые и в инее, как чалые, и мужики с обледенелыми бородами и усами, и бабы в платках, собравшиеся у лебедевской избы, и владелец мельницы Лебедев Тихон (тот, кого раскулачивали, выселяли из дому по решению схода) в накинутом на плечи бараньем тулупе с отвернутым белым воротником, стоящий на крыльце, лютый и сдерживающий себя, и Никанор Фонин (тот, кто выселял и кому было поручено это сходом), и еще десятки знакомых деревенских лиц, и сам Богатенков, совсем парнишка, подросток, Емелька Богатый, стоящий на снегу, у плетня, и наблюдающий за тем, что происходит во дворе и на крыльце лебедевской избы… «Сколько мне было тогда лет? Тринадцать, четырнадцать? Да, мне было тогда тринадцать лет, и я стоял у плетня, который примыкал к Василисиному дому. А он-то, он, Лебедев, как поначалу держался!» — говорил себе Богатенков. Ему было удивительно теперь, что ничего не было забыто из прошлого деревенского мира, ни лица, ни слова и речи, какие произносились в тот день, ни свои собственные детские мысли и чувства, которые и теперь не представлялись ему ни наивными, ни смешными. Он видел, как с Лебедева, когда тот выхватил из-под полы маузер, сорвали бараний тулуп, как скрутили ему руки, связали и увели в сарай, затем на крыльцо выносились лебедевские сундуки, самовары, перебирались вещи, записывались и ворохом накладывались на сани. «А ведь он застрелил бы Фонина, многих пострелял бы, но не дали, успели связать. Злобы, лютости сколько! — думал Богатенков, снова и снова представляя себе лицо Тихона Лебедева. — Такой завалит хлебом, дай волю». Он вспомнил, как вечером, вернувшись домой, он вошел во двор и стоял, глядя на низкую дверь своей избы, на окно, замерзшее, сквозь которое ничего не было видно ни со двора в избу, ни из избы во двор, на коровник, стог сена на крыше коровника, на кучу смерзшегося и не преющего навоза тут же, во дворе, возле коровника, — он видел все это сейчас перед собой так же, как видел это тогда, и видел бедность, в какой жил, и так же, как в те зимние дни теперь, спустя столько лет, в нем шевельнулась ненависть к Лебедеву. «За то самое сено на коровнике я ведь почти все лето работал у Тихона на мельнице», — мысленно проговорил Богатенков, не прерывая, а лишь усиливая этими словами те далекие детские воспоминания. Его заставляли сидеть по ночам возле крутившегося жернова, он не смел ни на минуту сомкнуть глаз; белыми пригоршнями летела в лоток теплая, пряно пахнувшая мука, сыпались струйки зерна из ковша, беспрерывно, бесконечно, как соскальзывающая медная цепочка, а жернов наполнял монотонным гулом все ветхое деревянное строение мельницы. Все это видел перед собой Богатенков, видел всю обстановку мельницы, батрака-мельника, дядьку Василия, самого хозяина, Тихона, ходившего с хлыстиком между кулей с зерном и мучных ларей; когда дядька Василий, ремонтируя желоб, поскользнулся и, подхваченный струей воды, попал под мельничное колесо и разбился, Тихон лишь сказал: «Не можешь, не берись, болван!» — и на другой же день, как только похоронили дядьку Василия, Васильевой жене и двум детишкам ее, худеньким и заплаканным, велел убираться вон с мельницы. Богатенков хорошо помнил, как Тихон вышвыривал их пожитки во двор, говоря: «Вон! Вон!» — потому что надо было ему поместить в ту комнатушку вновь нанятого батрака; помнил, и видел перед собой убитую горем, плакавшую и причитавшую женщину: «Куда же я с ними, господи! Ирод! Нет жалости в тебе, ирод!» — и притихших, с испуганными глазенками мальчика и девочку, которые стояли возле выброшенных вещей, держась за руки и ежась. «Что же было с ними? Ах да, они ушли, кто-то увез их на подводе», — продолжал думать Богатенков: Он все отчетливее представлял себе свою жизнь, отца, который был тяжело болен и лежал в ту зиму на печи, не слезая, весь опухший и бледный, а к весне скончался, и не помогла ему бабка, приходившая из соседней, деревни с узелком травы и уходившая с колобком сливочного масла в узелке; представлял мать, тихую и худую женщину, которая сначала записалась в колхоз, а потом криком кричала, когда, уводили со двора корову в общий коровник; представлял Дашу (ей было тогда семь лет) и все, что и как было в избе, из которой он потом уехал учиться в Смоленск, а затем в Москву, из которой Даша в сорок первом ушла на фронт санитаркой (изба была сожжена немцами, а мать умерла в первую же зиму во время оккупации), — он представлял себе все это лишь для того, чтобы подтвердить свою обычную и всегда жившую в нем мысль, что все, что происходило в тридцать первом году в деревне, было необходимым и справедливым. «Неправильное отношение к мужику, непонимание души крестьянина, — снова повторил он прочитанные у Николая слова. — Так ли? К мужику ли?» Он как бы сдвинул и поставил рядом свою избу с пятистенником Лебедева, свою коровенку с шестью холмогорками Лебедева, свою мохнатую монгольского вида лошаденку с конями Лебедева. Он представил себе не только Лебедева, а всех, кого раскулачивали в ту зиму и весну в Нижней Рыковке, их избы, подворья, их коров и лошадей, и вспомнил, как с группой таких же, как он, подростков бегал замазывать печные трубы в кулацких избах, чтобы не могли топить и уезжали бы из деревни. Он не мог теперь припомнить, как это получилось, что он пошел замазывать трубы, но зато отчетливо помнил, как в чугунах прямо на улице, на кострах, грели воду и размешивали глину, как он по лестнице взбирался на соломенные крыши и кричал оттуда: «Подавай!» — и как ругали его и всех, кто был с ним, выходившие из дома женщины, жены раскулаченных и выселенных из деревни мужиков, крича: «Что вы делаете, люди!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
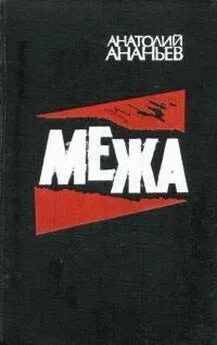

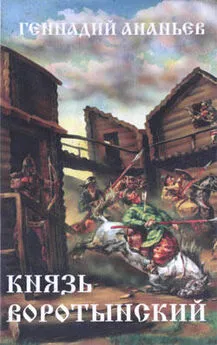
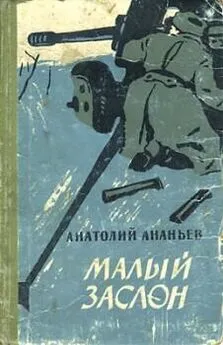
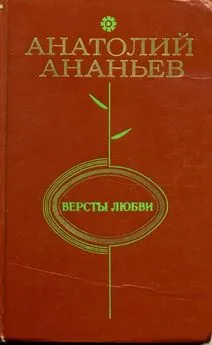
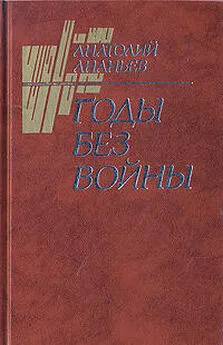

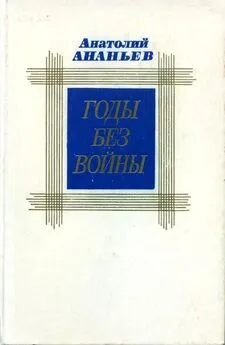

![Анатолий Ананьев - Танки идут ромбом [Роман]](/books/1073448/anatolij-ananev-tanki-idut-rombom-roman.webp)