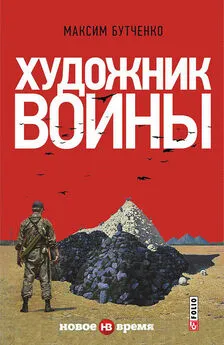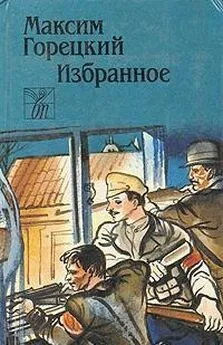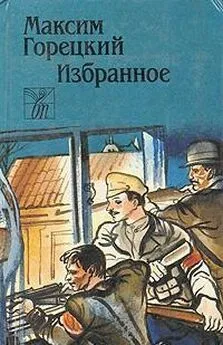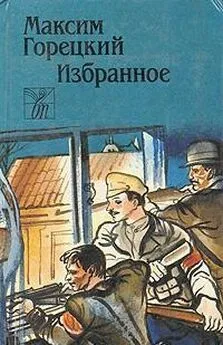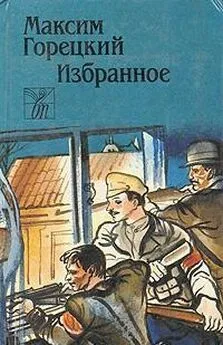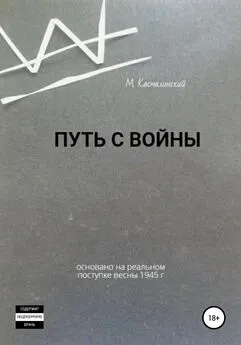Максим Горецкий - На империалистической войне
- Название:На империалистической войне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1916
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Горецкий - На империалистической войне краткое содержание
Документальная повесть рассказывает о честном, открытом человеке — белорусе, которые любит свою Родину, знает ей цену. А так как Горецкий сам был участником Первой Мировой войны, в книге все очень правдиво.
Это произведение ставят на один уровень с антивоенными произведениями Ремарка, Цвейга.
На империалистической войне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь мне было больно, когда и не трясло. К ноге нельзя было притронуться, нельзя было хоть чуть-чуть повернуть ее. А здоровая нога зябла, и всему мне становилось скверно и холод.
Я думал, сколько часов мы уже едем. Может, два? Может, четыре?
Сосед пошевелился и попросил курить. Жмогус не слышал, и я сердито крикнул ему в спину:
— Остановись! Остановись же ты!
Старик-жмогус услышал, ничего не сказал и остановил коня. Затем посмотрел через плечо, а затем слез с телеги.
— Он курить просит… — сказал я капризно.
Дед-жмогус, с седенькой небритой щетиной на лице, достал кисет, свернул две цигарки, раскурил сперва одну, потом другую и уже раскуренную дал раненому. Тот взял ее слабой рукой и поднес к губам.
— Пожалуйста, и мне сверните, — попросил я таким капризным, болезненным голосом, что даже самому стало стыдно.
Старик, ничего не говоря, свернул и мне, я взял и прикурил от его цигарки сам. Закурив, поехали, но раненый затянулся всего несколько раз и бросил недокуренную. Проехали еще немного, и я увидел, что пехотинец перекрестился бледной, немытой с того времени, как его ранило, рукой, с грязью между пальцами. Я смотрел на него с опасением: доедет ли он, не помрет ли в дороге, очень ли он слаб? Старик стал почаще оглядываться на него.
— Остановите… Остановите… — снова попросил раненый.
Старик остановил лошадь, а я бросил цигарку на обочину.
— Помираю, братцы… — сказал пехотинец, и горькая гримаса появилась на его синем худом заросшем лице.
Досаду и жалость вызвали у меня его слова.
А старик-жмогус смотрел с состраданием, но не очень встревоженно, как смотрит посторонний добрый человек.
— Прости меня, братец! — сказал раненый, скосив на меня глаза.
— Бог простит… — прошептал я неохотно слова, которые положено говорить, если так просят на исповеди или перед смертью. Я с любопытством смотрел на синее лицо умирающего, и он не выдержал, отвел глаза.
— Прости меня, дед! — перевел он глаза на жмогуса.
— Бок простийт… — прошамкал жмогус, и по его морщинистой небритой щеке поползла слеза. Я даже удивился.
— Санитары! Сюда идите, санитары! — приподняв голову, вдруг громко крикнул я.
Но их пришлось ждать.
Подошел один, подошел второй с носилками. Вовсе не торопились, посмотрели, стоит ли его снимать с телеги, потом сняли, положили на носилки и понесли к едущей сзади лазаретной линейке — полотняной будке с красными крестами по бокам.
Старик-жмогус взял в руки вожжи и снова сел спереди, а на освободившееся место санитары указали легкораненному, и тот после пешего марша с удовольствием взобрался на телегу. Это был бородатый рыжий здоровый солдат, у которого только рука была на перевязи, а на кисти намотано столько бинтов, что она была как подушка.
Я отвернулся от него и молчал. Боль притупилась, я уже был безразличен к боли. Закрыл глаза, потому что резал свет с высокого серого неба. Мерещилось, что это Стефан везет меня в школу, нога мерзнет, и брат сел на нее, чтобы согреть. Постепенно тепло разливалось по всему телу.
И было хорошо, только все боролся с какими-то помехами, никак не мог добиться полной удачи, чтобы было совсем хорошо, куда-то ехал и не мог доехать, видел, что матери это не нравится, но она все молчит, а я и не хотел всего этого, да так уж вышло… То становилось легче, я видел перед собой небо, сумерки, то снова становилось хуже, и ни на что не хотелось смотреть. Покорно ждал, хотя и томительно тянулось путешествие, но тяжело было так долго ждать. На ухабах подбрасывало, боялся выпасть — и тут сознание подсказывало, что я ранен, что вижу сны, а нога невыносимо болит, и лучше спать, чтобы не ждать, когда все-таки доберемся до станции.
Очнулся я в черной темени. На лицо сыпались мелкие капельки дождя. Не только ныло тело, но страшный холод забрался под одеяло, промерзла вся спина.
Транспорт стоял в каком-то большом селе или местечке.
По левую сторону от телеги горел свет в огромных окнах, далеко впереди тоже светились окошки, а вокруг было черно.
Никого поблизости не было, где-то вдали слышались голоса, там же фыркнул конь. Кто-то взошел на крыльцо, в этот дом с освещенными окнами, но на мой голос не отозвался.
Я звал, стонал, просил, чтобы меня взяли в дом погреться, потому что меня трясло, как осину ветром-холодом.
Никто не слышал, санитарный транспорт стоял, шел дождь, было темно… Где-то далеко и глухо, как в страшном и забытом сне, прогремели пушечные выстрелы. А может, только показалось?
Я не помнил и не понимал, каким чудом слез с телеги, взобрался на высокое крыльцо, прополз в темные сени и открыл дверь в теплую светлую кухню. Там в плите горели дрова, лежали на полу солдаты, и я лег с ними. И хотел бы лежать так вечно, только бы транспорт не ушел без меня…
А когда вскорости приехали на станцию и наяву засветились огни, синие и желтые, и крикнул паровоз, я удивился и не мог сообразить, был на самом деле в кухне или нет, и кто меня оттуда снова посадил на телегу. Тут дождь пошел сильней, и так хотелось поскорее оказаться в вагоне-теплушке, где сухо, тепло, на нарах не трясет и где так давно-давно я не был. И когда паровоз снова крикнул, а потом мимо прошумел, — радость охватила меня. Наконец дверь теплушки отодвинулась, в освещенном квадрате появилась сестра милосердия в белом переднике, подошли санитары с фонарем и носилками. Меня сняли, положили, подали в вагон. Нечаянно толкнули, и острой болью резануло в паху, однако что ж: торопятся, сколько еще раненых там ждет на телегах. И стыдно немножко, что так много со мной хлопот, но ведь заслужил. Только ради чего, ради чего все это? Сколько понапрасну тратится времени, сил, денег! Не надо войны…
Какое счастье лежать в теплом вагоне! Меня положили на верхние нары, у стенки, как в хате на полатях, и было слышно, как по крыше вагона барабанит дождь.
В теплушке уже лежало человек десять. Сестра была немолодая и не очень красивая, но ласковая. Два санитара — ополченцы.
Меня раздели, укрыли, дали чаю в белой чашке и твердую лепешку.
Так хотелось есть — и не елось…
Приятно потянуться и уснуть. А поезд тронется — и укачает… Конец мучению.
Госпиталь
Нога согнута другой, если пошевелить, болит страшно. Писать запрещают. Да и руки не слушаются. Нудно лежать в госпитале, хотя и хорошо после позиции.
Вечная память нашему славному командиру-герою. А кто же теперь командует батареей? Вероятно, капитан Смирнов.
Так было в госпитале в первые дни.
А потом — Боже, как не хотелось умирать! Почему от меня скрывали, что могут отнять ногу? Что такое — глубокая флегмона? До сих пор ведь все было хорошо. Почему теперь так скачет температура?
И стыд какой — этот вечер перед операцией… Дикая боль, и истошный плач, и вопли детские, неискренние:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: