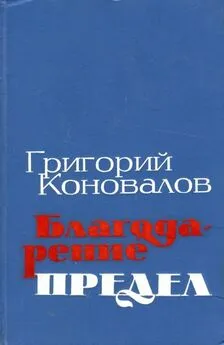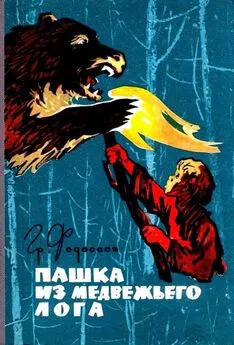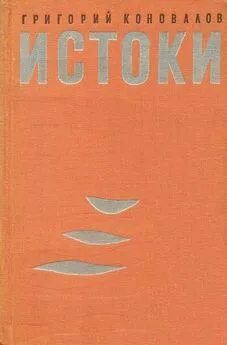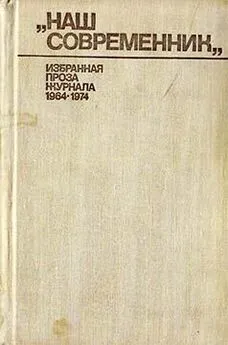Григорий Коновалов - Благодарение. Предел
- Название:Благодарение. Предел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Коновалов - Благодарение. Предел краткое содержание
Роман «Предел» посвящен теме: человек и земля.
В «Благодарении» автор показывает и пытается философски осмыслить сложность человеческих чувств и взаимоотношений: разочарование в себе и близких людях, нравственные искания своего места в жизни, обретение душевной мудрости и стойкости, щедрости и чистоты.
Благодарение. Предел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Да, я жесток, не милосерднее других. Хуже! У отчима хоть все на виду, сила его чисто внешняя, а нрав необузданный поигрывает им. А моя гадость запрятана в стишки, в дикую фантазию, в слабость, именуемую добротой. Я толкнул его в страшный переплет. Тут надо бы встать грудью вперекор беде: «Одумайся, Мефодий Елисеевич!» Так нет же, в благородство играл, отступал, дразнил… получается, заманивал… Да уж лучше бы на воротах его повесился, и то меньше бы зла было. Или набил бы ему морду по-дружески… это когда увидал их за погребицей. Видишь, Борьку зарезал, мол, ешьте…» Тут Иван остановился в испуге перед открывшимся лишь сейчас смыслом: если бы не поросенка, их бы мог убить. Этого никогда он не говорил себе, а теперь, сказав, забоялся себя запоздало и все же сильно. Хорошо, что не постучал в дверь жены ночью, а вот так по-глупому, отпустив бороду, пришел, как посторонний. Посмеются? Пусть на здоровье смеются, лишь бы не было чего-нибудь похуже…
С крыльца Ольга заметила: у амбара сидят на бревне Филипп, руководящий старик Елисей Кулаткин и незнакомая женщина, грозившая Ольге божьей лаской — огнем. Показалось мгновенно, что они привязаны друг к другу черными веревками, но, вглядевшись, Ольга поняла: не веревки, а тени ивовых ветвей перекрестно сгустились на этих троих.
И стыдно, и унизительно было Ольге: слышали, как она уговаривала Ивана, своими слезами хотела сапоги размочить, чтобы обулся и, значит, признал нерасторжимость своей судьбы с ее судьбой. А действительно ли для любви нужен ей Иван — и если для любви, то для какой любви?
Услышала голос женщины:
— Хлебнула я в жизни кислых щей. Кто только не лил в мою душу, в самую-то клетку отчаяние, тоску, бесстыдство. Попадались охотники поохальничать над бабой.
«О чем она?» — подумала Ольга мимоходно, но больно. И услышала голос Филиппа:
— Эх, милая, все живое тревожится вечно… На пролеске ветку морозом прищемит, и затревожится она, запечалится. И речка уж так зашевелится, заволнуется, лед ломает. Мать почует младенца-благоденца под сердцем, тоже ушами-то поводит, как лосиха на волчий запах. Все живое в мире за дите свое содрогается. Жизнь-то твоя как состроилась?
— Он про то, мужик-то мял тебя, топтал? — ерничал Елисей.
— Ты, девка, не обижайся на Елисея Яковлевича. Лучше подумай: хуже беды нету, как беспарность. От ненайденности-то пары можешь затосковать, убить человека в себе можешь. Сапог не бывает на одну ногу…
Пока Ольга бегала к бабке Алене за приворот-травою, луна высветлилась над Беркутиной горою, заблестела на реке, дымно отсвечивала на раскинувшихся вершинах ветел.
Ольга в сенях включила электроплитку, поставила варить приворот-траву и, не зажигая света, вошла в дом. В горнице на стуле у окна, где сидел давеча Иван, дымился, дотаивая, лунный свет. Тихо окликая, оглядела обе комнаты — нигде не было Ивана. И тут вдруг осознала, почти как счастье: нужен Иван — законная определенность, отец Филипка.
Ольга вышла, покликала бабку Алену.
— Не видала Ивана? Куда он задевался?
— Христос с тобой! Разве забыла, что он…
— Был тут! Был сейчас!
— Марево томит тебя… Господи, уж не летун ли — душа неприкаянная Ивана являлась… Голова горячая…
— Вся горю, будто молоком горячим налита.
— Лезь в речку, поостынь. Потом лечить тебя буду…
Ольга выскочила на улицу, налетела на Ерзеева.
— Что ты, с цепи сорвалась? Где же твой бородач?
— Да это же Ванька был! Он, он…
— Ну и дура ты, только догадалась. А я так сразу узнал его, только подыгрывал. От скуки… — Афоня залез рукою в карман ее пиджачка за семечками. — Ну вот и заживешь теперь с мужем, он большие деньги привез…
До восхода солнца сошлись в поле на совет: как приладить и срастить жизнь молодых. Первым пришел к Филиппу Иван. Сели они у молодого дуба. Слева томились луга густотравием, справа на возвышенности выколашивался пегий овес, а прямо по горбатому водоразделу рассыпались овцы.
Заря спросонья дохнула в лоб огненным ветерком, стряхивая росу с трав, с ресниц — полуявь, полусон. По луговым западинам немо, со своей затаенной предназначенностью, казалось Ивану, клубился тот ненадолго родившийся туман, который легко сливался со сновидениями, если пристально глядеть на переливчатое колыхание куда-то торопящейся седой мороки. За белой опарой колдовская неуловимость — не то зарождение новых жизней, не то дотлевание сгинувших миров непостижимой смышлености.
— Ту беду, как попал ты в полынью корчеватую, помнить буду всю жизнь и по утрам вздрагивать, — говорил тихо Филипп.
Иван признался, что давно, с детства тянуло на побег, да все побаивался: кругом селения с названиями на испуг: Русский Сыромяс, Татарский Сыромяс. Оно убежать можно промеж них прямо по кривизне долины, да ведь у выхода на простор не дремлет мордовское село Дракино, вроде кулака вздраченного: мол, в рыло хошь? И как-то подмывало перешагнуть предел.
Филипп с детским простодушием посоветовал Ивану не бояться мордвы. Они смирные, приветливые, только летом опасью ходить надо по ихним улицам: в погребах бухают, как пушки, бочки с кислым молоком. Бывали случаи, разносило погреба, и одному проезжему на голову накинуло корчагу. А мордовки хороши, ох как хороши — помирать не надо.
— Как мамака-то переживала?
— Ветром валило мамаку-то — не пьет, не ест… Злодей ты, Ванька. Не мог весточку дать…
«Почему же я не писал? По трусости или себялюбию? А видишь ли, все выяснял мои отношения с человечеством: кто ты и кто я? Не успело материнское молоко на губах высохнуть, а туда же с взыскательностью — кто прав? Воображал себя прощающим людям, как будто они провинились передо мною. Теперь уж видно: презирал, любя… Да во мне невпроворот того самого, ну вроде: возьму да и отвернусь, гори все смрадным огнем! А в огне-то кто исходил немым криком? Мать родная… какая бы ни была, а мать. Старики мои несчастные…»
— Ну как она? — с тоской и болью спросил Иван. — Все расскажи, деда.
— Тряпку, топор, косу, грабли прибрала. Сито, чугунки разные поставила на полку. Шерсть накуделила, подвесила в амбаре с донцем и пряхой. В твоей старой избе печку побелила с подсинькой. Сделает дело, выйдет на зады и все глядит из-под ручки за реку. Эх, Ванька ты, Ванька… Не совладел с собой.
— Да как же дальше-то?
— Истопила печь, сухарей насушила лист, в сумку холщовую связала. «Родной мой батюшка-свекор, прости меня Христа ради, не знаю, ворочусь ли я!» В ноги упала. Ну что я ей скажу, дитю большому, затосковавшему? Прочитал про себя молитву: «Мати дева, принимай на стезю свою, пошли ей с благодарной верой покров твой». Проводил за выгон, говорю: знаешь, Агния, поскорее приходи домой. Походила-походила, вернулась… А ведь я без тебя чуть не помер… Загнало меня на печку раньше срока, сижу, голову свесил и все жду последней тайны. И вдруг вспомнил — дай гляну на Олькина сына Филипка. Поверишь ли, гляжу на него и плачу тихо: все до самого дна видят его детские глаза… Как они, эти младенцы, глядят, сказать невозможно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: