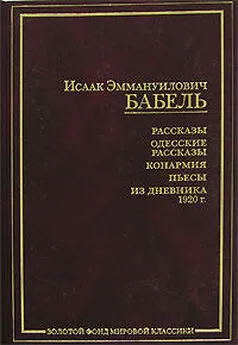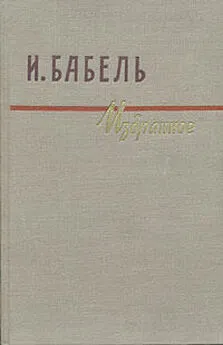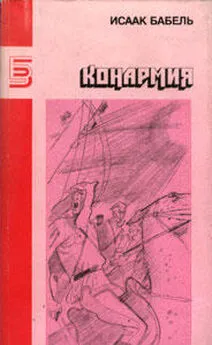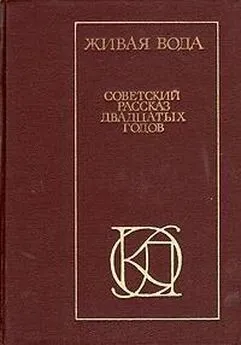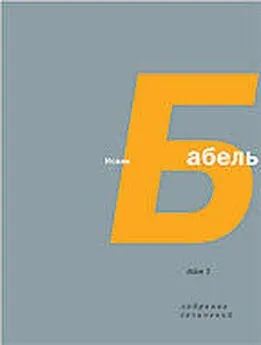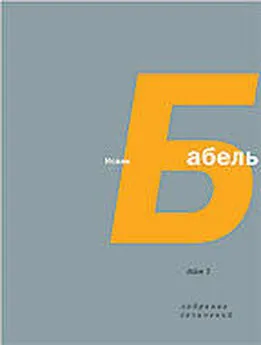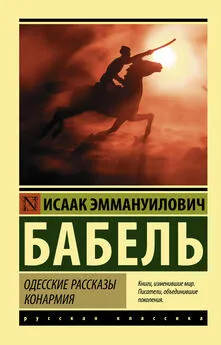Исаак Бабель - Советский русский рассказ 20-х годов
- Название:Советский русский рассказ 20-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство МГУ
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-211-00386-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Исаак Бабель - Советский русский рассказ 20-х годов краткое содержание
В публикуемых рассказах воплощены различные стилевые манеры, многообразие молодой советской литературы.
Для широкого круга читателей.
Советский русский рассказ 20-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нетрадиционную оценку рассказу дает Н. Грознова. Она называет рассказ «День Петра» «смелым поиском» писателя, дает своеобразную характеристику образу Петра: это «то палач, истязающий противника на дыбе, то молниеносно решающий деловые вопросы государственный деятель, то доверчивый, все понимающий собеседник» ( Грознова Н. Ранняя советская проза 1917–1925 гг. С. 47).
А. Толстому, по концепции Н. Грозновой, важно было не столько решить проблему «личности в русской истории», сколько «повернуть ее к современности» (там же). Петр I стал для А. Толстого личностью, из столкновения которой со средой можно «высечь искру исторического движения». В содержании петровской эпохи он сумел выявить важнейшие конфликты, «в которых и заключалась энергия исторического движения» (там же, с. 48).
В рассказе, считает Н. Грознова, Толстой «стремился отыскать те созвучия между национальными чертами Петра и национальными чертами действительности, которые бы оправдали встречу этой личности с русской историей» (там же, с. 47–48).
(Комментарии составила А. Ю. Петанова.)
Ю. Н. Тынянов получил широкую известность и как автор работ по истории русской литературы, и как писатель, обращавшийся в своем творчестве к историческому жанру.
Влияние Тынянова-ученого на Тынянова-художника, а точнее взаимовлияние, отмечалось почти всеми, кто писал о нем. Однако в оценке этого влияния мнения — особенно в 20-е годы — расходились. Долгое время проза Тынянова связывалась с концепцией формальной школы, оценивавшейся в целом отрицательно, и уже в первых работах о Тынянове прозвучала мысль о негативном влиянии теоретических постулатов формальной школы на его художественное творчество конца 20 — начала 30-х годов. Упрекали писателя, например, за «отсутствие героев», «эксцентричность во внешности описываемой эпохи», «беспредметный скептицизм» и т. п. ( Цырлин Л. Тынянов-беллетрист. Л., 1935). Об «отрицательном влиянии формализма» на прозу Тынянова писал Н. Маслин ( Маслин Н. Черты новаторства советской литературы. М.; Л., 1960. С. 249). Резко высказывался о творчестве Тынянова конца 20 — начала 30-х годов Ю. Андреев: «Творчество Тынянова зашло в тупик, наступил идейный и художественный кризис писателя. […] Годы идейной неустойчивости Тынянова, его увлечения формализмом — это крупнейшая труднооценимая потеря для советской литературы» ( Андреев Ю. А. Русский советский исторический роман. 20-е–30-е годы. М.; Л., 1962. С. 29).
Иначе (без негативных оценок) вопрос о взаимовлиянии Тынянова-ученого и Тынянова-художника решался Б. Эйхенбаумом, который писал об «органической» связи литературоведческих работ Тынянова и его беллетристики: «Его художественный стиль и метод своего рода практическая проверка теоретических наблюдений, изысканий и выводов. Иногда это даже прямое экспериментирование, порожденное не только художественным замыслом, но и теоретической проблематикой» ( Эйхенбаум Б. Творчество Тынянова// Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969. С. 381).
Обладая прекрасным знанием и «чувством» эпохи, Тынянов мастерски использовал исторический документ в своих новеллах. К. Федин, говоря о значении и особой роли документа у Тынянова, писал: «В самом характере его творчества лежат особенности походки ученого. Документ поет в тексте художника, растворяясь и дыша своим значением, но не заглушая искусства, а только устраняя малейшие сомнения в подлинности исторического факта» ( Федин К. Юрий Тынянов// Федин К. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М., 1973. Т. 9. С. 181–182). О документированности, пафосе «достоверности» писали и другие (Н. Маслин, Л. Цырлин, Б. Костелянец и др.).
Б. Костелянец, отмечая высокий художественный уровень и новаторский характер исторических произведений Тынянова, обращает особое внимание на роль метафоры в художественной системе Тынянова-прозаика. «Метафора появляется у Тынянова именно для того, — отмечает исследователь, — чтобы связать между собой разные пласты человеческой жизни, вскрыть их внутреннее единство, показать движение истории и в большом и в малом… Метафора у Тынянова обнажает и вскрывает связь бытовых норм, характерных для той или иной эпохи или общественной среды, с идейной борьбой, с интеллектуальной и психической жизнью человека» ( Костелянец Б. Художник и история// Костелянец Б. Творческая индивидуальность писателя. Л., 1960. С. 264). Как бы возражая оппонентам, упрекавшим писателя (из-за его пристрастия к «анекдотическим» сюжетам) в поверхностном подходе к истории, критик Г. Макаровская указывает: «…одно из замечательных достоинств всех его экскурсов в прошлое — их «своевременность и насущность» (П. Антокольский) — не в малой степени определялась именно аналитическим свойством тыняновской мысли, способной с одинаковой глубиной и гибкостью проявиться и в тонком психологическом этюде, и в блестящем сатирическом обобщении, в гротеске» ( Макаровская Г. В. Типы исторического повествования. С. 92).
Очень высоко оценивая исторические новеллы Тынянова, В. А. Каверин в предисловии к одной из книг писателя утверждал: «Исторические рассказы Ю. Тынянова проникнуты иронией — по видимости добродушной, а на деле язвительной и острой. Я бы сказал — быть может, это покажется странным, — что в них есть нечто чаплинское — то соединение гротеска и трагедии, обыденного и невероятного, смешного и печального, та безнадежность, против которой не только опасно, но и бесполезно бороться» ( Тынянов Ю. Кюхля. Рассказы. М. 1981. С. 14).
Впервые — Красная новь, 1928, № 1.
Первоначально замысел произведения из эпохи Павла I возник как сценарий немого фильма, действие которого имело более широкие исторические рамки, чем наличествующие в рассказе.
Печатается по изд.: Тынянов Ю. Кюхля. Рассказы. Л., 1971.
В своих книгах кинорежиссеры Г. Козинцев (Глубокий экран. М., 1971) и С. Юткевич (О киноискусстве. М., 1962), вспоминая о рождении замысла «Подпоручика Киже», связывают его с анекдотическим эпизодом, рассказанным Ю. Тыняновым. Царский солдат охраняет голое поле: артиллерийский склад, который здесь раньше был, упразднили, но приказа о снятии поста все еще не было. На месте, где был склад, десятилетиями сменяются караулы. Охраняемая пустота — это было «зерном» замысла, претерпевшего существенные изменения в процессе работы. Фильм «Подпоручик Киже» должен был стать первой работой режиссера С. Юткевича, но осуществить ее ему не удалось.
В журнальной публикации рассказ имел своего рода введение, снятое затем в отдельном издании, где Тынянов в качестве исходного материала рассказа называет «двухстрочный анекдот», «неумно записанный» одним важным мемуаристом. Этот анекдот обнаруживается в так называемых «памятных тетрадях» С. М. Сухотина, отрывки из которых публиковались в 1894 г. в «Русском архиве». Анекдотов, по сути, два. Первый: «Павел, приняв ошибку писаря: подпоручики же (киже) за имя собственное, произвел этого Киже, в продолжение одного года, из подпоручиков в полковники и тогда потребовал для представления из какого-то армейского полка. Штаб, т. е. военная коллегия, для скрытия ошибки признал его умершим».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: