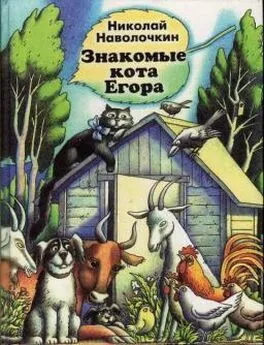Магдалина Дальцева - Хорошие знакомые
- Название:Хорошие знакомые
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Магдалина Дальцева - Хорошие знакомые краткое содержание
Самые разные люди проходят перед читателем в книгах М. Дальцевой — медсестры, спортивные тренеры, садоводы, библиотекари, рабочие. У каждого героя — свой мир, свои заботы, своя общественная и своя личная жизнь. Однако главное в них едино: это люди нашей формации, нашего времени, советские люди, и честное служение интересам своего общества — вот главное, что их объединяет.
Хорошие знакомые - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…Отпуск в Сочи. На раскаленный пляж с вафельным полотенцем, в сетке навыпуск, в полотняных, густо выбеленных зубным порошком туфлях, топнешь — белый туман до колен. Море черно-зеленое, спокойное, просторное — качайся на легкой волне хоть до самого Новороссийска. А вечером на поплавке «Мелодия» Рубинштейна — тари-та-та-та, тари-ти-ти-ти-ти… И весенний запах укропа, вольный, дымный дух шашлыка…
Я опомнился, когда поезд отошел от станции и набирал скорость. Стало жарко в коридоре, я распустил узел галстука и хотел заставить себя обдумать, как выкрутиться перед шефом, а главное — заставить себя не вспоминать. Давно заказано. Надо отвлечься и невозможно. Зацепиться не за что. Пустой коридор, тишина, я и «Казбек».
…Возвращение из конторы от Сокола к Замоскворечью, вся разнослойная Москва, звяканье трамвая по Тверским-Ямским, где на первых этажах переделанные из торговых помещений квартиры с окнами-витринами, плохо задернутыми ржаво-красными занавесками, и там какая-то страшная жизнь с ревностью, с пьянством, с покинутыми детьми, может быть, с убийствами. Мимо новенького дома на углу Каляевской — ясный свет желтых абажуров, незавешанные чистые стены. Мимо толпы на Большой Дмитровке около театра Немировича-Данченко: «Нет ли лишнего билетика?» Мимо роенья на Театральной, где все бегут, крутятся, будто запутались и гоняются, как щенята, за своим хвостом. И тишина Ордынки, и базарная суета Серпуховской… «Что у них хорошо…»
Мне стало очень жарко. Я прислонился лбом к стеклу. Почему же нельзя забыть? Человек не змея, не меняет кожу. Так написал я тогда в одном-единственном письме в Москву. И не получил ответа… Колеса стучали, скрежетали, лязгали, поезд мотался — старенькие пути. От этого становилось еще жарче. Я дернул кожаные петли рамы. Окно не открылось, а я пополз, пополз вниз, упал на согнутые коленки и только услышал, как стукнулась голова об пол… Наверно, это было недолго. Когда я очнулся, на полу вокруг меня метались замшевые туфли Олега, пижамные брюки Калмыкова, пестрые носки Агобяна. Они боялись меня поднять. Думали — инфаркт. А мне было очень хорошо оттого, что я на полу и вокруг вся эта суета. Ничего не хотелось менять, и я молчал и улыбался. Вот так бы… И опять с неотвратимой назойливостью наплывало…
…После первомайского парада на пустынной набережной глухо-красная Кремлевская стена сквозь сетку еще не распустившихся лип, скомканные бумажки от мороженого, уже ненужные ветки с нежно-розовыми матерчатыми цветами вишни на тротуаре, свернутый стяг на плече, высокая колокольня на другом берегу, фасад английского посольства в глубине сада, и все подходят, набегают с Красной площади бабенки с «Дуката», доплясывающие «У самовара я и моя Маша…».
— Несчастный старик, — сказал профессор.
— Почему это он несчастный? — спросил Агобян. — Просто не рассчитал силы. С каждым может случиться.
КОЗЛОВ-СТАРОДУБСКИЙ
— Занавес украли? Выдать огнестрельное оружие ночным сторожам! — гремит он на весь дом.
Я открываю глаза. Отец, как всегда по утрам густо напудренный, стоит около письменного стола, прижав плечом к уху телефонную трубку. Короткими беспомощными пальцами он пытается расстегнуть запонку на крахмальном воротничке. Негодование душит его. Круглое пузо, обтянутое полосатыми визиточными брюками, упирается в стол и вздрагивает. Выслушивая ответы, он нетерпеливо притопывает ногой.
В комнате полутемно. Окно раскрыто, ветер вздувает черную штору, вышитую арабскими письменами, солнечные лучи скользят по кафелям голландской печки, по ямщицкому лицу Шаляпина в овальной раме, по цветной гравюре, на которой изображен Наполеон в коронационной мантии, по крышке пианино, мутной от пыли, как осенний пруд.
Мне очень хочется спать, но я знаю, что уснуть больше не удастся. Шума по поводу украденного занавеса хватит на полдня. Кому она понадобилась, эта насквозь пропыленная холстина?
Излив свое возмущение на безмозглых и безруких людей, зря получающих зарплату, он кратко заключает разговор:
— Будьте вы прокляты! — и бросает трубку.
Проходя мимо моего дивана, заискивающе улыбается:
— Я, кажется, тебя разбудил? Извини, пожалуйста. — И, нагнувшись ко мне, вдруг кричит: — Какие красные щеки! Жар?
— У нее всегда красные щеки, — устало отзывается мама из соседней комнаты.
Он не слушает.
— Где у нас градусник? Как у тебя блестят глаза! Вавочка, у ребенка температура!
Ребенок! Здорово придумано. Через год я кончаю школу. Я уже давно ношу туфли на высоких каблуках. У меня роман с инженером Богоявленским, и он катает меня на мотоцикле по Рождественскому бульвару. Под гору от Сретенских ворот к Трубной. Ребенок…
Вокруг меня начинается безумная суета. Прибегает Женька. Хотя он младший брат отца, я никогда не называю его дядей. Выходит мама в распахнутом капоте, с неподколотой длинной косой. Отец мечется по комнате, осклизаясь на ровном полу, выковыривает ножницами пробку из пузырька с лекарством, разбавляет водой перекись водорода, требует, чтобы кто-нибудь бежал в аптеку за венским питьем.
Я совершенно здорова, но, стиснув зубы, молчу. Ненавижу все эти препирательства и скандалы. Самое страшное — быть похожей на отца. В ушах звенит от крика. Где-то я читала, что грация — это соразмерность усилий с действием. До чего он неграциозен! Дрожащей рукой наливает воду в стакан, будто графин пудовый, будто случится катастрофа, если он перельет каплю. Венское питье я принимать не буду. Выброшу пузырек в помойное ведро.
— Не выходи на улицу, — бубнит отец. — Инфлюэнца косит людей по всей Европе. Прими аспирин, укутайся. Вавочка, где у нас зеленое стеганое одеяло?
Мама, перекинув косу через плечо, вяло бродит по квартире, делая вид, что разыскивает то ножницы, то градусник. Сквозь зубы она говорит:
— Козлов-Стародубский…
Козлов-Стародубский — сценический псевдоним отца. Он всегда шокировал маму. Для нее это символ всяческой аффектации, наигрыша, актерства.
Она, так же как я, как все в доме, устала от бестолковой энергии отца, от того, что он доигрывает в жизни все, чего не доиграл на сцене. Мы с ней понимаем друг друга с полуслова. Но неужели же и со мной он Козлов-Стародубский?
Я поворачиваюсь лицом к стене, разглядываю цветные квадратики на ковре. Чу́дное занятие — можно ни о чем не думать. Красный, зеленый, желтый. Зеленый, красный… Значит, отец меня совсем не любит и все эти заботы — просто комедия? Ведь было же что-то и всерьез. Я помню, как в гражданскую он ездил по клубам на спектакли, они назывались тогда «халтуры», с актерами расплачивались то пшеном, то мороженой картошкой, но в антрактах их обязательно поили морковным чаем и давали кусочки черного хлеба с повидлом. Отец возвращался из Лефортова или Сокольников пешком, голодный, замерзший, а кусочки всегда приносил нам. Я тогда еще маленькая была. Один раз в спешке он надел котиковую дамскую шапочку со стеклярусным цветком и отправился на спектакль, а потом, не щадя себя, рассказывал, что, когда проходил через зрительный зал, все смотрели на него, а он очень гордился, думал, так велика его слава. Это он для меня рассказывал. Я болела тогда, ему хотелось меня рассмешить. Я долго болела, и он часами сидел у постели, читал вслух «Гекльберри Финна». Правду мама говорит: «Болеть и умирать с таким человеком — замечательно. Жить — немыслимо».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: