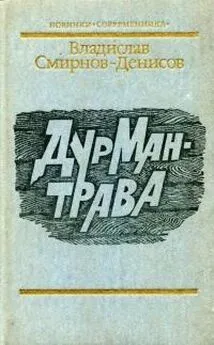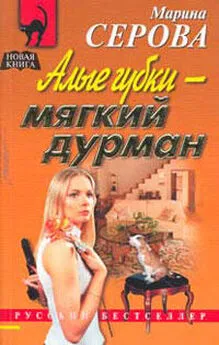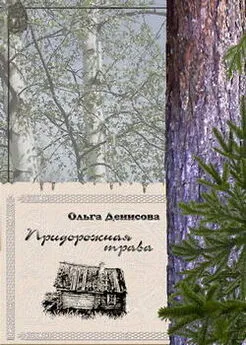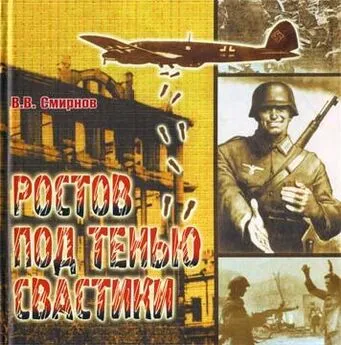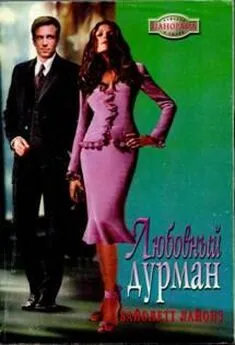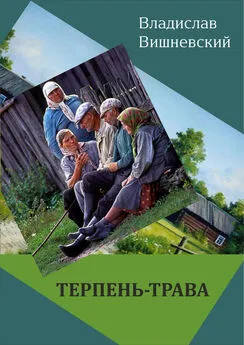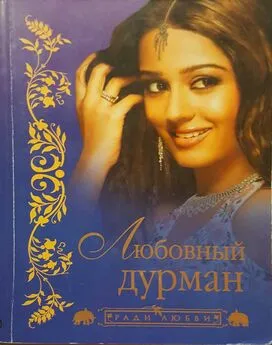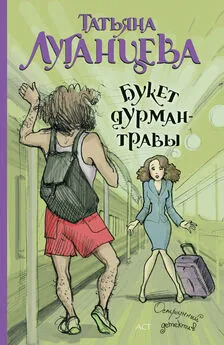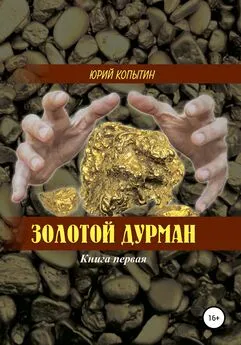Владислав Смирнов-Денисов - Дурман-трава
- Название:Дурман-трава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Смирнов-Денисов - Дурман-трава краткое содержание
Дурман-трава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Как ты?.. Ты слышишь меня, Пафнутя?
Долецкий молчал, но Серафим заметил, как слегка шевельнулись под его опухшими веками зрачки. С трудом натянув на Долецкого изорванную одежду, Серафим вытянул его руки по швам, затем, срезав два толстых березовых прута, осторожно вдел их в рукава Пафнутиной фуфайки, а торчавшие снизу концы прутов связал. Проделав все это, он подволок раненого к стволу дерева и уложил рядом. Больше часа понадобилось Серафиму на изготовление носилок-волокуш. Сначала он было даже попробовал взвалить Пафнутия на плечи, но понял, что ноша эта ему не по силам. Несколько раз Пафнутий стонал, но кроме слова «узнал, узнал…» Серафиму ничего не удалось разобрать в этом полустоне-полубреде.
Когда все было готово, Серафим обнаружил, что оленей на тропе нет, и вспомнил, что не привязал связку от волнения. Он посмотрел в конец тропы, ведшей к Мертвой осыпи, и заметил, что вся дорожка исцарапана когтями. Еще он обратил внимание на то, что лапы черного пса и живот замусолены землей с кровью.
— Ты его волок, Тас Кара, — изумился старик. — Тут до осыпи не меньше часа пути, Тас Кара! — Серафим оценивающе глянул на Долецкого: — Семь пудов, не меньше!.. Тас Кара!
Пес в ответ скульнул. Серафим задумался, потом, подозвав Буску, привязал того на веревку к дереву и обратился к черному псу:
— Тас Кара, олени! Беги за оленями… — и показал на тропу.
Оленей черный пес привел скоро, и все же в этот день до избушки радистов добраться не удалось — стемнело. Ночью с раненым на волокуше идти по тропе было невозможно. Путь, на который у Серафима обычно уходило не больше пяти часов, занял на этот раз и остаток дня и весь следующий.
Долецкий был все время в беспамятстве, мог только пить. Иногда бредил, слов, однако, ни Серафим, ни Орелов, ни прилетевшие потом вертолетчики с врачом разобрать не могли. Серафиму снова показалось, что он расслышал лишь одно слово — «узнал…», повторенное несколько раз.
Доктор споро осматривал больного — надо было спешить.
— Шесть переломов. Хорошо, позвоночник цел.
Больше всего дивился доктор, что глубокие ссадины «пациента» успели зарубцеваться так быстро и «главное — совершенно отсутствуют поверхностное воспаление и нагноение», Серафима же это открытие не удивило. Он подумал о Тас Каре, вылечившем слюною воспаление, и, захватив кусок мяса побольше, вышел во двор.
Пес дремал в тени под смородиновым кустом, поджарый, большой, черный. Услышав приближающиеся шаги, он поднял голову, открыл глаза и, зевнув, потянулся всем телом. Серафим протянул ему мясо, хотел было потрепать пса по голове, погладить, но тот, мгновенно вскочив на ноги, снова, как и в прошлый раз, не дался.
— Не любишь чужих рук, — сказал ему старик.
Тас Кара уже успел вылизать свою смоляно-черную густую шерсть до лоска. Охотник залюбовался его мощной статью и красотой, крупной развитой грудью и головой, особенно поразили старика человечьи глаза Тас Кары, спокойно и властно наблюдавшие за ним. Пес, казалось, оглядывал старика так же оценивающе, как старик собаку.
— Пурган Аза, — прошептал охотник.
Вертолет-больница с красным крестом на борту стоял на широкой, ослепительно белой под ярким солнцем отмели, среди насыпей нанесенной потоком крупной гальки, неподалеку от заломанной паводком громадной кучи из стволов деревьев: пойма реки в этом месте раздалась вширь на полторы сотни шагов.
Носилки с телом Пафнутия по возможности осторожно впихнули через задние створы в нутро машины.
Громадный, вороного отлива Тас Кара напряженно стоял в десяти шагах от вертолета, вытянув голову Вперед и вынюхивая струю воздуха, текущую из вертолетной утробы, куда упрятали Пафнутия. Он почти неслышно скулил.
Доктор поднялся по приставной лесенке на борт, обернулся и, глядя на собаку, заметил вслух:
— Что-то их связывает… — и махнул рукой.
Заревел запущенный двигатель, и последние слова его ни Серафим, ни Орелов не расслышали.
Несколько минут вертолет, судорожно подрагивая, крутил, не отрываясь от земли, лопастями; в стороны по отмели понеслась галька с песком, выветренные напором воздуха. Таежники отвернулись и закрыли глаза, когда же они их открыли, вертолет зависал уже над долиной Кызыра, потом медленно поплыл меж хребтов в сторону Гутары.
Верхняя Гутара — деревня дворов в шестьдесят. Там — магазин, почта, на окраине тарахтит динамомашина на двести лампочек. Большинство населения — тофалары (сейчас их немногим более пятисот человек) — небольшая народность, что расселилась издревле по верховьям рек Бирюсы, Уды, Ии, Гутары, Кызыра и других. Тофалары, раньше называемые карагасами, — потомки населения, входившего в семнадцатом веке в пять административных улусов «Удинской землицы» Красноярского уезда. Раньше этот народ вел кочевой образ жизни, долго сохранял и первобытно-общинный строй. Ныне, как и прежде, тофалары — отменные охотники и оленеводы: берут в «своей тайге» [6] Своя тайга — участки охотничьих угодий, закрепленные за отдельными охотниками.
соболя и белку, медведя и росомаху, пасут в горах оленей, шишкуют кедр. Живут в нескольких разбросанных далеко друг от друга поселках.
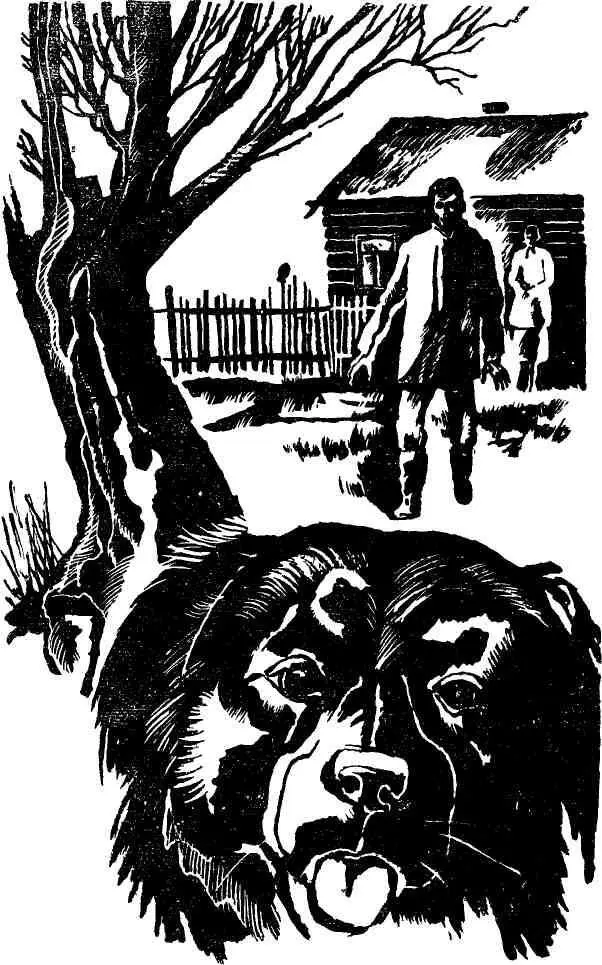
В Верхней Гутаре посадочная площадка — лужок метров сто. Самолет, взлетая с нее, резко карабкается вверх, чтобы не ткнуться носом в гору. В здешних горах вообще трудно отыскать сколько-нибудь ровную площадку протяженностью хотя бы в несколько десятков метров. Здесь — неверные курумнистые елани, глыбистые склоны, поросшие вековым кедрачом, пихтой, сосной да березой…
Осенью, когда гольцы покрыл несхожий снег и кончился геологический сезон, а охотничий еще не подоспел, мы с Серафимом решили лететь в Нижнеудинск — повидать в больнице Пафнутия Андреевича Долецкого.
В маленьком четырехкрылом самолете разместилось десять пассажиров, в том числе большая кремового цвета корова, которую везли на прививку в город. Корова оказалась самым спокойным пассажиром.
Взлетаем, и приближаются к нам горы, то одна, то другая, облака гладят их пуховыми боками. Уходит из-под ног гутарская гора Синюха, фиолетовая гора-осыпь. Она, сейчас пятнистая, солнцем вся запятнана, словно передвигается вместе с облаками. Это земля, тело ее дышит, меняя лицо, — то грустнеет, то улыбается, то хмурится. А дальше пошли под нами зелено-сизые разливы горного леса — Саянской дремучей тайги, изрубленной синими полосками рек и ручьев. Пролетая над вершинами невысоких гор, мы видим столбики топографических знаков — «марки», так их называют топографы…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: