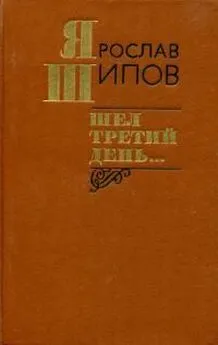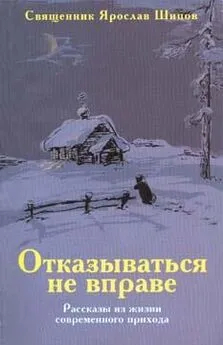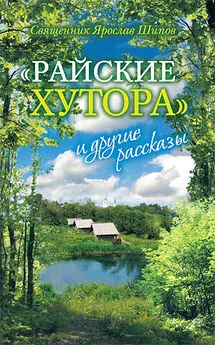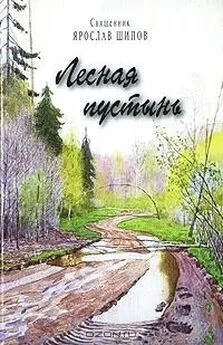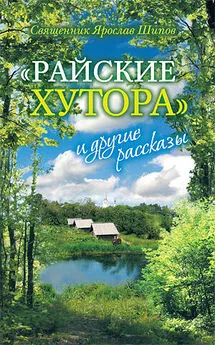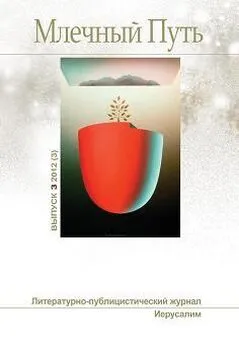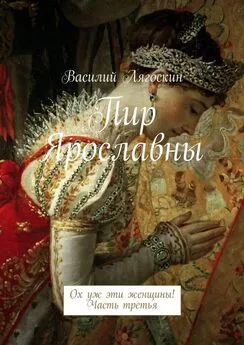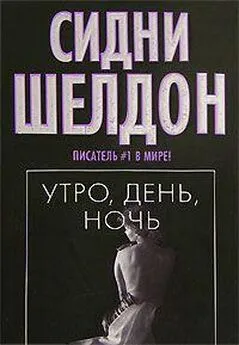Ярослав Шипов - Шел третий день...
- Название:Шел третий день...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ярослав Шипов - Шел третий день... краткое содержание
Шел третий день... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После тактических занятий проводились учебные стрельбы, на которых вместо стендовых тарелочек использовалась треснутая и надколотая посуда. Победу одержал завскладом живсырья Олег, поразивший восемь из десяти тарелок, фужер, заварочный чайник с отбитым носиком и обе чашки. Иван Соловей выступал здесь вне конкурса.
Вот странно: многие, далеко не самые важные моменты истории Достославного общества известны: как на одной берлоге четырех медведей добыли или, скажем, как охотились на дикого кабана, поселившегося в совхозном свинарнике, — об этом даже газеты рассказывали. А вот, например, о ружье Соловья мало кто знает.
Ружье было зарегистрировано двенадцатым калибром, хотя из фунта свинца Иван для своей фузеи отливал только четыре пули. Но Филимон сказал, что четвертого калибра не бывает и надо зарегистрировать двенадцатым или шестнадцатым. И ведь экспертизу устроил: из города криминалист приезжал, фунт в граммы переводил, диаметр ствола измерил, отлил из свинца пули — получилось четыре. Сказал: невероятно, должно, изотоп попался особый. И записали двенадцатым — смех! Ведь когда Иван утопил ружье в пруду, а после вытащил — в стволе жили раки!.. Ладно бы восьмым или десятым, а то двенадцатым! Насмешка! Раков, кстати, так и сяк, а они не идут. Пришлось, говорят, ружье в корыте варить. Конечно, эта история не совсем похожа на правду: Иван Соловей мужик старый, опытный, на кой черт ему, спрашивается, варить ружье, если можно было кипятку в ствол плеснуть? А кроме того, кто хоть раз видел Иванову фузею, подтвердит, что не бывает корыта такой длины.
Так вот, когда, выступая вне конкурса, Соловей выстрелил в старый амбар, амбар без остатка взлетел на воздух, и деревяшки падали потом целый день. Уже вечером Филимон Квасов — лицо официальное — вышел из избы по нужде, и ему на голову упала гнилушка. Коля Боткин, оказавшийся неподалеку, определил, что гнилушка из того материала, из которого был строен амбар. Еще Коля высказал предположение, что мощность выстрела составила две мегатонны. Может быть, это и не совсем так, но с другой стороны, если, как говорят, Иван Соловей насыпал полствола пороху, то отчего же?
После стрельб в огороде меж пустующих ульев была развернута собачья выставка.
Среди гончих вне конкуренции оказался смычок Несипи и Громчелай заведующего складом. Повесив на шеи собак пластмассовые жетоны-номера, прихваченные из гардероба краеведческого музея, Олег отпустил животин с миром. Первое и единственное место среди норных собак занял фокстерьер Глаша, принадлежавший Филимону Квасову. Лучшей лайкой из трех представленных оказалась Найда Ивана Соловья, лучшей легавой — опять же единственной — сеттер Глаша. Животное это происходило от смешения шотландского сеттера с фокстерьером, потому и выступало сразу в двух категориях. Такой черный в подпалинах сеттер на прямых коротеньких лапах и с бородой.
Затем в саду под яблонями состоялось награждение победителей. Иван Соловей получил пять пачек патронов двенадцатого, конечно, калибра, Филимон Квасов — именное ружье, Олегу были торжественно вручены двести таблеток яда. Он пытался сопротивляться, говорил, что не занимается «этим делом», да и вообще «Боткин всех волков потравил», что не заслужил, что собаки не его, а бродячие, но Квасов помотал головой и обреченно вздохнул: «Бери, сынок, пригодятся».
Наконец настал черед кинологического семинара. Слово для доклада было предоставлено Соловью. Он сказал:
— В старые времена каждая собака занималась своим делом: одна — гоняла, другая — подымала дичь, третья — травила самостоятельно, четвертая — еще чего, но всякая знала свою, можно сказать, профессию. Потом наступили другие времена, когда любая собака в любой деревне умела кое-как и зайчишку загнать, и птицу поднять, и белку облаять. А потом пришли нынешние времена, когда все собаки всё понимают, но ни одна ни хрена не делает.
Это была самая длинная речь в жизни старца. Народ был так потрясен внезапной его говорливостью, что от изумления оцепенел. Очнувшись, общество забило в ладоши. Иван даже поклонился, но «спасиба» за внимание не сказал — от волнения потерял голос.
Олег — бывший москвич, променявший столицу на Достославное общество, выступил с сообщением.
— Граждане, — сказал он. — В городах обстановка такая: есть, конечно, отдельные охотничьи собаки, отдельные, если по-научному, особи, но основная, если опять по-научному, популяция делится на три группы. Первая — собаки мальчишеские. Это бездомные животные, которых кормят детишки и которые, значит, из благодарности сносят все шалости и прочие игры. Вторая группа — собаки пенсионерские. Обычно мелкие, злобные и перекормленные животные. О них я даже и говорить не хочу. Третья группа — пьяницкие, я бы сказал, собаки. Они дежурят возле дверей магазинов, стоят около подъездов и подворотен — хозяина ждут. Как правило — лохматые, немытые, но спокойные и до невозможности терпеливые. Спасибо за внимание. У меня все.
— Чисто симпозиум, — вздохнул Боткин. — А мы ничего не записываем. — Квасов отвернулся, слеза скатилась по его квадратной щеке.
Да, совсем недавно еще велась летопись: для отчетности, для потомков и для себя — копить опыт да ошибок не повторять. Но однажды, когда бумаг и бумажек набралось множество и негде их стало хранить, отнесли все это в архив, дабы там разобрались и свели историю общества в единую книгу. Тут, кстати, приближался и юбилей, и договорились уже, что типография отпечатает памятные экземпляры.
Архивные умельцы действительно свели все в одну куцую папку с надписью «Дело», но странным образом: первый же документ об организационном собрании заканчивался словами «князь плакал». Вторая запись была сразу о собачьей выставке, случившейся спустя десять лет после собрания. Заканчивалась она: «Князь смеялся». Далее таинственный князь стал все чаще и чаще влезать на страницы летописи. То он вместе с охотниками осуществляет биотехнические мероприятия, то вдруг попадает в кабину «уазика» и отказывается платить штраф за браконьерство, аргументируя свое поведение вопросом: «А ты знаешь, кто я?» Под конец князь совсем вытеснил Достославное общество, выдав свою дочь за какого-то соседнего князя и устроив по этому поводу «зело велику потеху».
Долго недоумевали охотники, искали намека, жаловались архивным начальникам и получили ответ. Оказалось, что некогда, в стародавние времена, существовало здесь еще какое-то общество и архивариусы свели его воедино с нынешним. Причем действовали аккуратно, соблюдая таблицу перевода календарей, то есть, если собачья выставка была, скажем, пятнадцатого сентября, то и князь, в переводе на новый стиль, смеялся тоже пятнадцатого сентября, а не зимой и не летом. Так что архив сработал нормально. Хотя за неуместное припутывание князя кого-то лишили премии, кому-то влепили «на вид», а Достославному обществу принесли извинения. Но поправить дело было уже нельзя: сотворив новый взгляд на историю общества, старые бумажки архив спалил. А жаль. Действительная история Достославного в некоторых смыслах весьма поучительна и уже по этой причине заслуживает внимания. А всякого рода приукрашивания — зачем они? Охотники так и не признали невесть откуда взявшуюся грамоту «за поимание единорога», хотя, вероятно, с четырьмя грамотами им было бы легче выиграть межрайонное соревнование. Но признавались лишь свои кровные, честно заработанные: первая — за истребление волков, вторая — за их успешное разведение в качестве санитаров природы и третья — та самая, которую завоевал Боткин — за истребление вновь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: