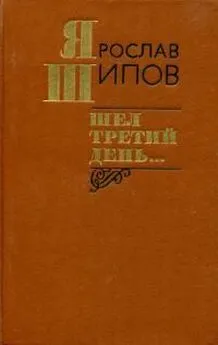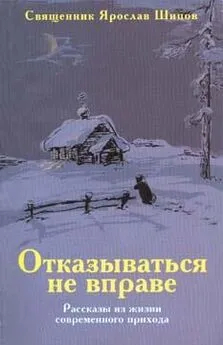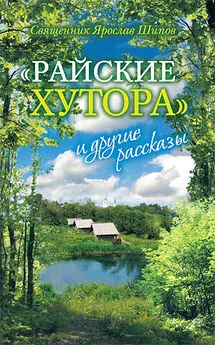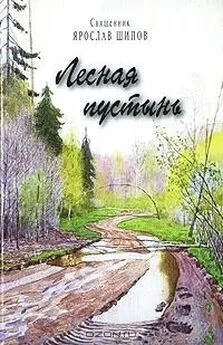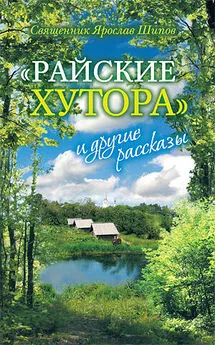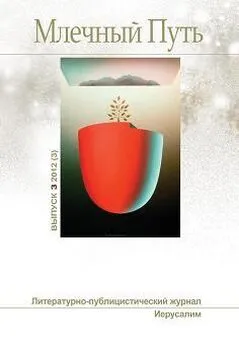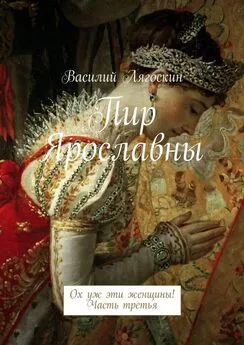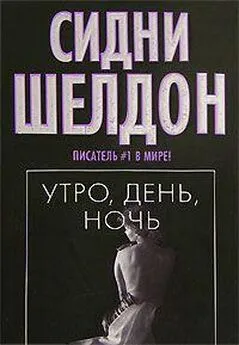Ярослав Шипов - Шел третий день...
- Название:Шел третий день...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ярослав Шипов - Шел третий день... краткое содержание
Шел третий день... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот, собственно, и все, что удалось мне узнать о Метелкине за несколько дней. Отправившись дальше, я в первой жилой деревне принялся выяснять мнение земляков о знатном кляузнике. Все, кто знавал его, а Павел Степанович умер тому назад лет эдак двадцать, в один голос твердили, что он был печником. «Может, чего когда и случалось, — говорили мне, — но если только давно. А после войны, все знают, Метелкин клал печи, причем денег почти не брал».
Я вспомнил, что последнее найденное мною «прошение» относилось по времени действительно к концу войны. Просмотрев еще раз «биографию жизни» Павла Степановича от 1925 года, нашел я и пропущенные ранее строки об учебе на печника и о работе печником в Петербурге с 1906 по 1909 год.
Все дружно хвалили метелкинские печи и пожимали плечами при словах «жалоба», Карс, Трапезунд. Составленное мною представление никак не вязалось с образом печника-филантропа. Допускать, чтобы одно благополучно соседствовало с другим, не хотелось: вышло бы, что недобрые дела можно преспокойно творить рядом с добрыми, потому как первые непременно забудутся, а это, известно, неправда.
Ясность внесли родственники Метелкина: его внук — главный бухгалтер колхоза и жена внука — завскладом. Они объяснили, что «дед когда-то был ничего — копейку имел, но потом — не враз, а постепенно, — свихнулся. И хотя врачи этого не подтвердили, вся родня знает. Стал печки ло́жить, деньги порастратил или неизвестно куда подевал, а в наследство одну бумажонку оставил — перед соседями срам дак».
Я попросил, и мне показали завещание Павла Степановича, написанное все тем же виньеточным почерком — уж не гусиным ли он пользовался пером?
«Лишь одно божество на Земле — ушедшее время, — начал я разбирать вслух. — Будущего нет…»
— Точно, — подтвердила жена внука. — Эти ученые доведут Землю до края. Не войной, так химией.
Далее Павел Степанович корявыми канцелярскими фразами, воспроизвести которые затруднительно, рассуждал в том смысле, что будущего не существует физически, что его либо еще нет, либо, уже осуществляясь, оно становится настоящим, а осознанное настоящее — прошлым. Дескать, одно только прошлое реально, дескать, оно всегда с нами: «в житейском опыте, в воспоминаниях и болезнях».
Затем, бесхитростно сравнивая жизнь с «хождением в неведомое», Павел Степанович настоятельно рекомендовал для определения курса оглядываться назад, на «вешки прошлого», и проводить от них через себя прямую линию, то есть употреблять прошлое как геодезический репер.
Наконец, Павел Степанович признавал, что он лишь к закату «начал понимать в жизни», но тем не менее решился изменить весь ее ход, дабы последние поставленные им вешки подсобили потомкам. «Хотя слишком поздно, а потому навряд», — прозорливо завершал Павел Степанович.
Я решил отдать документы Метелкина, но родственники замахали руками: «Вы что?!» И поинтересовались, зачем мне-то понадобился этот мусор. Я не знал, что отвечать, как, впрочем, и теперь не знаю и до сих пор все не могу найти какого-то определенного отношения к Павлу Степановичу, хотя судьба его не перестает занимать меня.
Вероятно, ни мне, ни кому-то другому не докопаться уже до мыслей и чувств, которые «не враз, а постепенно» изменили внутренний облик Метелкина.
А может, и не надо докапываться? Может, и не следует искать определенности в отношении к Павлу Степановичу? Может, и в помине нет тех слов, которые точно обозначили бы образ старого писаря? Может, притягательная сила этой «зауряд-военной» истории только в том, что она — прошлое? Может, Метелкин прав, и прошлое действительно обладает некоей властью над нами, властью реальной, но необъяснимой, загадочной? Как там у него: «…лишь одно божество на Земле — ушедшее время». Есть в этом положении чрезмерная категоричность, да.
Но с другой стороны, нельзя ж всерьез утверждать, что сапоги из Трапезунда могут представлять нынче хоть какой-нибудь интерес, тем более что все они на одну ногу.
ДОСТОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО
(Из охотничьего фольклора)
Долгие годы в одном селе существовало охотничье общество. Кто — неизвестно, а потому: народ — окрестил его Достославным. Чего теперь в этом прозвище больше — почтительности или насмешки, — трудно сказать, но первоначальный смысл определенно был добрым и ясным: почему-то именно с добрых намерений и ясных слов начинаются все те запутанные истории, последствия которых невероятны настолько, что не поверишь, покуда не увидишь сам. А и увидев, бывает, не поверишь опять же.
Старые охотники помнят еще период расцвета: обилие дичи, все виды охот, рентабельность, строжайшая дисциплина… Казалось, вот-вот, немного — и во всех лесах, на всех болотах, лугах наступит совершенное благоденствие. Но тут с непостижимою незаметностью период расцвета сменился периодом угасания: куда-то стала исчезать дичь, куда-то — люди.
О дальнейшей судьбе Достославного натуры, склонные критически оценивать действительность, высказываются: сплошной хаос. Более снисходительные возражают: нормально, в долгой жизни чего только не бывает. Касательно же собственно дичи и угодий — хозяйственная деятельность так преобразила округу, что бывший директор леспромхоза, а теперь председатель Достославного общества Филимон Квасов, говорят, начал готовить перспективный план создания биологически чистого района, в котором не будет болезней, потому что ни одной бактерии не останется. Может, конечно, насчет плана и враки — никто его сроду в глаза не видел, но, скажем, традиционное предсезонное собрание — оно-то действительно было. Собрались, поговорили и, как водится, нанесли на карту разноцветные крестики, обозначавшие плантации изрубленного леса, горы брошенных удобрений и полосы распыления химикатов. Если в прошлом году карта напоминала собою пусть абстрактную, но все ж еще вышивку, то теперь — вполне конкретную штопку.
Квасов разглядывал карту через очки для близи, затем для дали, затем нацепил одни на другие. Припадал лбом, носом, щекою и наконец обнаружил в одном месте первозданную, не тронутую карандашами основу. Тут же, правда, кто-то предположил, что это Квасов носом дотерся, но большинством голосов выбранную территорию утвердили. Оставалось только узнать — что за место, как туда ехать или идти, да определить время выхода. Все это поручили старейшинам — Боткину и Соловью.
Коля Боткин хоть и являлся активнейшим членом Достославного общества, ружья в руках никогда не держал. Это обстоятельство следовало считать достоинством, потому что охотники — народ как бы не совсем… Это с рыболовами просто: они говорят — дели пополам, сам говоришь — умножай на два. Рыболовы, в основном, самые обыкновенные люди, разве что система исчисления своеобразная, а вот охотники… Мир их состоит частью из событий действительных, частью из, что ли, не очень, а то и вовсе из тех, которых быть не могло, но которые тем не менее были. То есть разумеется: чего не может быть вообще, того вообще быть и не может. Разве изредка, иногда. Естественно, обществу, нужен был хотя бы один человек, в голове которого реальное с фантастическим не должно было бы перепутываться. Не должно, а там — черт его знает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: