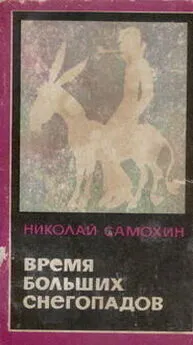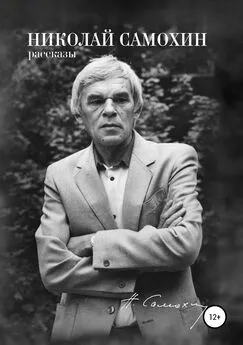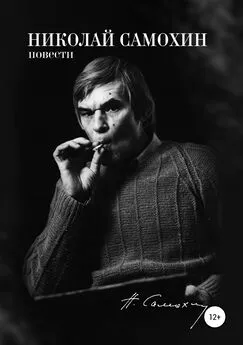Николай Самохин - Мешок кедровых орехов
- Название:Мешок кедровых орехов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Современник»
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-270-00081-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Самохин - Мешок кедровых орехов краткое содержание
Город военных лет, тыловой, трудовой, отдающий все силы для фронта, для победы, город послевоенный, с его окраинными призаводскими улочками, и город современный, с крупными предприятиями и научными институтами, с шумными проспектами и тихими парками — таково время и место действия в повестях и рассказах новосибирского прозаика Н. Самохина, составивших сборник. В самых разных ситуациях испытывает жизнь его героев на честность, доброту, нравственную чистоту. Многие рассказы окрашены легкой иронией, присущей прозе Н. Самохина.
Мешок кедровых орехов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Василий Иванович сделался в последнее время раздражительным. Лежим третью неделю, а горячей воды нет, значит, эффективного лечения тоже. Заведующий отделением, милейший Эллегий Павлович голову сломал, придумывая для нас новые процедуры. А что придумаешь? Без воды, как известно, «ни туды и ни сюды». Один кабинет аутогенной тренировки работает бесперебойно. Там воды не требуется. Накрывайся простынкой, расслабляйся и слушай магнитофонный голос: «Мои руки тяжелые… мои руки тяжелые… тяжелые… Мой лоб совершенно спокоен…»
Гена с Василием Ивановичем посещают «автогенку». Гена записался из любопытства: он думал, это нечто вроде велотренажера. Оказалось — лучше. Легко внушаемый Гена засыпает на четвертом предложении и сорок минут дрыхнет как убитый. Зачем ходит Василий Иванович — непонятно. Разве что намеренно душу корябать? На него уговоры не действуют. Когда он слышит дурацкое внушение: «Мой лоб совершенно спокоен», — ему начинает мерещиться беспокойный, суетящийся лоб, что-то вроде гигантской инфузории. А фраза: «Надо мною изумрудная зелень крон», — вызывает у него судороги.
Я понимаю его: от «изумрудной зелени крои» можно озвереть. А Василия Ивановича слова эти особенно ранят. Изумрудная, видите ли… Веточный корм! — вот что она такое. Опять ведь придется веточный заготавливать. Здесь в городе начали перепадать дожди, а там — он звонил недавно домой — и капли еще не капнуло. Покосы выгорают.
Через день заходит Эллегий Павлович, простукивает одного из нас, давление измеряет, интересуется самочувствием.
Сегодня моя очередь.
— Ну-с, как себя чувствуем? — спросил Эллегий Павлович.
— Да знаете… несколько лучше, чем вчера, — я незаметно подмигнул Гене. Это мы с ним сговорились — так отвечать. Жалко Эллегия Павловича. Уж больно откровенно он огорчается, когда мы жалуемся: «Не чувствую изменений, доктор».
— Так, — Эллегий Павлович повеселел. И тут же напустил на себя строгость: брови сдвинул… а глаза довольные. — А не примечаете, в каком положении вам легче: когда сидите?.. или когда ходите?
— Когда лежит, — подсказал Василий Иванович. Эллегий Павлович покивал головой.
— Н-да… Сидеть вам следует как можно меньше. Особенно вот этак — склоняясь вперед.
Это я и сам знаю. Стоит часа полтора посидеть за машинкой — и готово: нога немеет, в позвоночник будто кол вбили.
— Да не получается без наклона-то, забываюсь.
— Попробуйте писать стоя. Заведите конторку — и стоя. Как Хемингуэй.
Тут я уж возроптал.
— Да стоя-то, Эллегий Павлович, еще тяжелее. На одной ведь ноге приходится стоять.
— Тогда чаще меняйте положение. Посидели, походили, снова посидели. И диктуйте на магнитофон. А секретарша потом перепишет.
Ба! Никак он с классиками меня путает? Это у Константина Симонова секретарши да стенографистки были.
— Вот тебе и легкий труд! — подытожил Гена, когда Эллегий Павлович ушел. — Выходит, и твое дело швах, Яковлевич? Меняй профессию.
— Ничего, пусть лежа пишет, зубами, — мрачно сказал Василий Иванович. — Один целую книгу так написал. Зажимал карандаш в зубы и шпарил.
Василии Иванович, похоже, начинает тихо презирать меня. И я догадываюсь за что. Воды нет! А этот… писака! — лежит тут, как бревно, пальцем о палец не стукнет. И опять — я понимаю Василия Ивановича. К журналистам, к литераторам идут у нас нынче как в последнюю инстанцию, когда уже и прокурор бессилен помочь. Ну, а здесь что поделаешь? Даже позвонить неоткуда. Только из кабинета Эллегия Павловича. Ходил я к нему, предлагал: «Давайте в редакцию позвоним. У меня там знакомые. Продиктуем сейчас письмо. Наша палата подпишется, из других кто-нибудь. Пусть они тряхнут эту контору. Сколько можно терпеть?» Эллегий Павлович побледнел, руками замахал: «Что вы! Это же все бумерангом возвратится — и по мне! Откуда кляуза, из какого отделения? От Синченко? Меня съедят потом! Вам-то что — выпишитесь… Нет-нет-нет! Умоляю!»
Я все-таки позвонил. Из соседнего корпуса, по телефону-автомату. Трубку ладонью прикрывал, чтобы стоящие в очереди больные не услышали. Знакомый завотделом ахнул: «Три недели! Да вы, наверное, завшивели там!»
— Только ты меня не называй, — попросил я. — И, вообще, не ссылайся на сигнал из больницы. Придумай что-нибудь. А то хорошего человека подведем.
Противно было. Словно я аноним какой-то. Словно не за доброе дело радею, а подло на кого-то кляузничаю.
И Эллегия Павловича жалко. Впрочем, жалко — не то слово. Обидно за него. Ведь он же крупнейший специалист, авторитет в своей области, светило. По сути, на него должны все больничные службы работать, администрация, сам главврач — в первую очередь. А получается — он на главврача упирается: чтобы у того все в ажуре было, чтобы начальство на него не осерчало за то, что подчиненных плохо воспитывает, позволяет им сор из избы выносить.
Идиотизм какой-то! Сбежать бы отсюда к чертовой матери. За стенами-то больницы руки были бы развязаны.
Но сбегать нельзя. Неблагодарно. Вот тут уж действительно жалко Эллегия Павловича: ведь он искренне хочет на ноги меня поставить. Всех нас.
Значит, остается терпеть и ждать. И… вспоминать о дяде Грише, который почему-то втемяшился в голову. Наверное, от больничного безделья. В повседневной суете, в напряженке, вряд ли стал бы я перебирать по камушкам нескладную биографию странного своего дядьки. Ведь мы, собственно, и близки-то с ним особенно не были при жизни его.
Итак… дядя Гриша, помнится, уходил на фронт в первые дни. Первым же из всех наших мужчин вернулся обратно. Уже в декабре, под Москвой, он подорвался на мине. Пришел домой на костылях, ничуть, однако, не удрученный своим инвалидством. По крайней мере, внешне этого не было заметно: дядя Гриша держался молодцом. Вот так же возвращался он с танцев из соцгорода, побитый тамошними парнями: как будто не его отходили, а он всех перевалял.
В первое время, по примеру других инвалидов, он ударился в мелкую спекуляцию — торговал поштучно папиросами. Не знаю, насколько успешно шла его коммерция. Думаю, дядю Гришу больше увлекала сама обстановка: посидеть на людях, побрехать с такими же, как он, бывшими окопниками. Однажды мы с Толькой Ваниным застали его за работой. Прибежали на базар (образовалось у нас несколько рублей) и увидели там дядю Гришу. Он сидел на земле, привалившись спиной к стенке ларька, и с удовольствием покуривал собственный товар из раскрытой пачки. Тольку, однако, задарма не угостил, когда тот нахально протянул руку: «Дядь Гриш, дай закурить».
— Купи, — сказал. — На рубль — две штуки. — И, спохватившись, предупредил: — Сам кури, Миколаю не давай!
Дома у него по-прежнему было неприютно, ходить туда не хотелось. Хоть дядя Гриша и зазывал меня: «Заходи, Колька. Щас велим тетке Глахе драников напечь. Драники любишь?» Драники-то я любил (правда, у тетки Глаши получались они пресными и жесткими), да с дядей Гришей было не шибко интересно. Он, например, вовсе не рассказывал о войне: ни о подвигах, ни об ужасах — ни о чем. Только песня в его репертуаре прибавилась одна — «Землянка». «Вьется в тесной печурке огонь!» — громко пел он, мотая от усердия головой. Казалось, не суть песни — грустная, щемящая — волнует его, не слова ее, а лишь звукосочетания интересуют. Он пел и словно бы прислушивался к себе: как оно, дескать, получается? Закончив строчку: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага», — дядя Гриша замолкал, отмерял по столешнице четыре вершка негнущимися пальцами: туп! — туп! — туп! — туп!.. Та, до которой нелегко было ему дойти, смеялась, прикрывая рот: «Гы-гы! — вот, черт-дурак — гы-гы!..»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
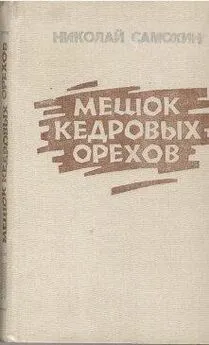


![Николай Самохин - Рассказы о прежней жизни [сборник litres]](/books/1075873/nikolaj-samohin-rasskazy-o-prezhnej-zhizni-sbornik.webp)
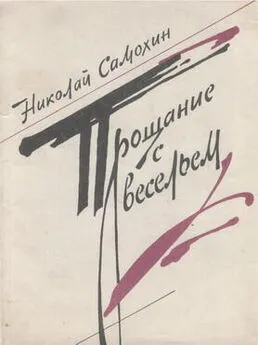
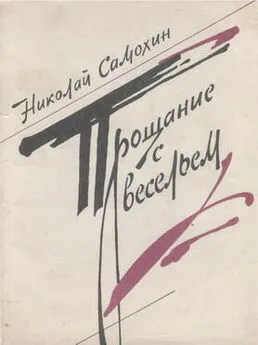
![Николай Самохин - Е-два, Е-четыре [Е-2, Е-4]](/books/1143874/nikolaj-samohin-e-dva-e-chetyre-e-2-e-4.webp)