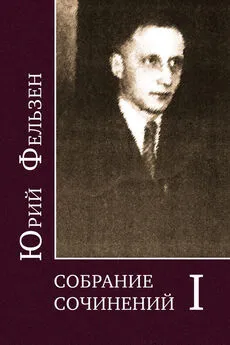Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
- Название:Собрание сочинений. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I краткое содержание
Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.
Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»
Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.
Собрание сочинений. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Есть огромная несправедливость в том, что нас любят за наше хорошее настроение, за счастие, которое мы даем (и даем, конечно, не даром), которое достается нам легко и не стоит никаких усилий, а за нашу обиженность и надутость, вызванную ревностью, болью, изменой, за всё трудное, что нами переносится, мы лишь теряем в расположении человека, нам изменившего, и даже в его воспоминаниях, в позднейших «выясняющих» разговорах это всегда идет нам во вред: каждому хочется помнить себя безукоризненно-милым, заслуживающим одобрения и благодарности, и устранить из памяти случаи грубости и предательства, перелагая за них вину по возможности на кого-нибудь другого, обычно как раз на того, кто оскорблен и напоминает о предательстве. И у нас с вами была полоса такого именно нагромождения несправедливостей, когда вас против меня натравляло сознание вашей же – простите – грубости, неожиданно со мною проявившейся, моя ответная неловкость, болезненный вид, бессловесное, но осуждающее молчание. Всё это печальное время не послужило у меня даже и творческому преображению: очевидно, творчество должно исходить от какой-то благодарности миру, от какой-то умиленности перед жизнью, от минуты безраздельно судьбою подаренной, иначе оно – желчное вольтеровское резонерство. И вот ни в творчестве, ни в сладкой мести предполагаемых ответных моих поступков (я слишком точно знаю доказанную их немыслимость и призрачность), ни в чем нет у меня ни малейшего утешения, ни единой, примиряющей с несправедливостью, надежды. Но такое же «нагромождение несправедливостей» – и в страшной судьбе урода или калеки, неработающего, незарабатывающего, может быть, обреченно-нелюбимого, и в ненужности – житейской и творческой – беспросветных лет войны для ее участников, и в невольном общем бегстве, в невольном отрыве живых людей от умирающего (как бы это деликатно и жалостливо ни скрывалось), и в нашем, нередко беспричинном, всегда бесплодном ледяном одиночестве. И если Пруст и немногие ему подобные – исключение (чему я не совсем верю – ведь Пруст только в горе был одинок), то исключение героическое и непостижимое.
Я же просто не могу довольствоваться собой, по-медвежьи «сосать лапу» – без какого-либо питания извне, – оттого я к вам и обращаюсь, и ваше, из моего уединения уводящее, капельку окрыляющее и ласковое письмо мне напомнило о дальнейшей невозможности ставшего слишком привычным этого моего уединения, как долгий голод после первого куска хлеба становится уже нестерпимым. Правда, надо быть, как я, приученно-неизбалованным, чтобы казались ласковыми насмешливые ваши слова. Вы упрекаете меня, уверенная, что снова попали в цель и что делаете особенно больно – в «творческом снобизме», в какой-то неожиданной моей «кастовости». На этот раз вы, право, меня не задели: вряд ли сумеете вы объяснить, в чем выражается мой снобизм, над кем я заношусь, кто составляет загадочную со мною касту. Перехожу в нападение и удивляюсь неожиданной вашей недобросовестности: ведь вы-то знаете, что в каждом письме я с предельной искренностью старался вам передать (как раньше передавал в разговорах) себя, свой день, различные в нем часы – длительные и пустые, скучно-рабочие, любовные, и среди других немногие, представлявшиеся мне творческими, – вам также известно, что всё это лишь общий у нас с вами, удобный, обоим понятный «жаргон», что такое же распределение существует и у вас (только вы ленивее меня и не так откровенны и словоохотливы) и что никому не станут известны, ни до кого постороннего не дойдут условные наши обозначения – творческий пыл, творческие поиски и работа. Да и вы – использовавшая во зло искренние дружеские мои признания – отпадаете как исповедница и вдохновительница, как понятливый и близкий человек, и я остаюсь один с напрасной, зачем-то мне данной, требующей применения, смешной в своей бесцельности, уже никак не хвастливой и все-таки отрадной силой, печальной и порою мне страшной.
Если бы вы только могли почувствовать и поверить, как мне бывает нехорошо в ночной, уединенной моей комнате, когда вдруг покажется, что сделано душевное «открытие», что вот сейчас появится «цепь» волнующих сочетаний и выводов, вдохновляющих к другим и укладывающихся в еле уловимый, готовый ускользнуть и наконец с трудом устанавливаемый порядок, когда вспомнится, что такие же прежние свои «открытия» я, завидуя, находил у людей, нередко прославленных и признанных, когда представится расхолаживающее утро, а за ним обычная невозможность что-нибудь объяснить и до кого-нибудь дойти, и через годы новое совпадение с удачливым, признанным, настоящим профессиональным «творцом» (причем сам я от времени разочаруюсь в «открытии» и до случайного совпадения о нем забуду) – от всей этой повторной, завистливой, ложно-победительной моей горячки, от сознания обидной ее бесцельности мне вдруг становится невыразимо душно, и тогда я бесповоротно убеждаюсь, что нельзя быть одному, что одинаково нужны и первоначальная «оплодотворяющая разделенность», и последующая (читательская и слушательская) «отдушина», что и то и другое – в человеке, которого любишь – может для нас иногда совпасть.
Вам, разумеется – как всё про меня, – известно, до чего мало во мне славолюбия, и вы не по-хорошему спрашиваете о моем равнодушии к тому, чтобы навсегда освободиться от прошлого, составив и напечатав о нем книгу. Я не раз это вам объяснял: в молодости были у меня славолюбивые желания и надежды (как в молодости пишут стихи и борются с любым правительством), но они уже давно поколеблены, вытеснены, полузабыты – миллионы чужих подвигов и смертей, в чем-то превышающих земную, все-таки ограниченную, конечную славу, неустойчивая, игрушечная, вынужденно-бездомная моя жизнь (где только любовь по-настоящему к себе приковывает), мелькающие люди и города, увы, это мне убедительно показало всю нелепость таких чрезмерных наших стремлений, всю нашу голую жалкую бесприютность и что нам никак не дано ее ни приукрасить, ни приодеть. Покаюсь и в более стыдной причине моего отмалчивания: до выступления, до первой книги – подобно каждому человеку, погруженному в себя и лишь перед собой ответственному – я всё еще могу думать о какой-то единственной, несомненной и для других, хотя бы предположительной своей правоте, о каком-то своем необычайном преимуществе, которое после книги, боюсь, для других уничтожится (и это меня в себе самом разуверит), а так остается – пускай неоправданное – внутреннее чванство, столь необходимое, чтобы противодействовать неудачам. Есть у меня – признак малодушия и слабости – еще одна нелепая черта, пожалуй, многое объясняющая: во всякой попытке чего-нибудь добиться, производимой наравне с другими людьми, во всяком соперничестве – деловом спортивном, литературном – меня заранее подавляет попросту количество соперников, какое-то первоначальное равенство шансов, и я не представляю себе возможности выделиться среди стольких людей, одинаково стремящихся к одному и тому же, как мне кажется невероятным вытянуть счастливый жребий, если это особенно нужно, или выиграть ошеломительно-много в лотерею. Главное же, за годы нестарания и ставших привычными бесчисленных недостижений что-то упрямо-личное словно бы во мне оборвалось, и всякие, во всех областях, унизительные поражения и отказы я принимаю как естественное и должное, как бы со стороны, почти не смущаясь и не борясь. Если же изредка бывает у меня и по-иному, это сваливается откуда-то извне, точно подарок, чудом совпавший с моим желанием, точно спасительное газетное известие или телеграмма о чьем-нибудь неожиданно-милом приезде, и я сразу же не помню всего, что предшествовало, даже и собственных долгих усилий. Между тем никогда я не был таким внутренно-неленивым, не сонным, таким беспрерывно-деятельным, как именно теперь, когда я брезгливо отворачиваюсь от всякой внешней, осмысленной, практической цели, какой бы ни казалась она возвышенной, и вот в этом неиспользовании самого деятельного моего времени, в этом недоверии к удаче, в этой жутко-напрасной огромной работе отчасти и ваша вина – не намеренная и злобная, а то, как с вами всё у меня сложилось, ваш окончательный уход, несочувствие мне и чужая, столь привычная, столь естественная надо мной победа. С тех пор, как вы от меня бесповоротно ушли, я лишился последнего своего заставлявшего действовать побуждения – бессознательно-корыстного, денежного: я не могу сейчас спорить, обманывать, что-то у других урывать, чужое негодование и недовольство для меня ничем не смягчено, и я никакой эгоистически-личной целью, никаким азартным волнением не защищен от уступчивой жалости, от равнодушного отказа бороться, я, в сущности, вовсе и не предвижу, что окрепну, изменюсь, захочу преодолеть равнодушие к деньгам и к своей судьбе, я беспечно и трезво иду к небывалому еще у себя падению, и начавшееся безденежье, вернее, неизвестность, необеспеченность близкого моего будущего, именно и сочетается лучше всего с беспримерной отрешенностью от эгоистически-личных надежд, и мне, как никогда прежде, необходимо то внутреннее брожение, то подталкивание, которое непроизвольно возникает от всяких встреч и разговоров с людьми, если люди не скучная помеха и не враждебны бесполезной сладости одиночества – чем они стали для меня теперь и от чего мне следует избавиться. Видите, я должен прервать опасное свое уединение, должен как-то встряхнуться, возможно даже, устроить и спасти свою жизнь – и я (уже без вас) перебираю самые неправдоподобные средства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: