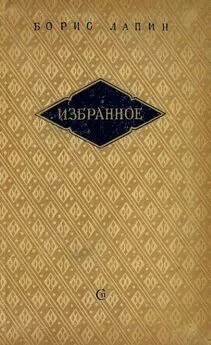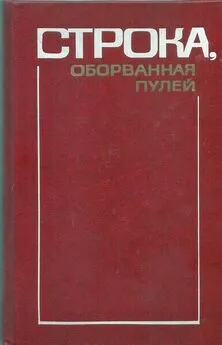Борис Лапин - Избраное
- Название:Избраное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1947
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Лапин - Избраное краткое содержание
Избраное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Многим людям эти мифы казались правдоподобными. Взглянув на карту, они находили некоторое странное соответствие между характером населения и физическим ландшафтом страны.
На зеленой срединной равнине живут светловолосые люди заволжской расы. Их характеризуют редкие брови, толстые носы, широкие улыбки.
Там, где к горным узлам подходит вода, живут народы с лишенными жира волосами, с вороньим носом, сплюснутыми черепами, с жестким выговором и неумеренной склонностью к счастью.
Выше, над уровнем моря и ближе к континентальным морозам, это племя переходит в другую разновидность людей, — у них все черты лица как будто расширены вогнутым зеркалом. Их нельзя представить повернувшимися в профиль.
Таким образом, — пойдем ли мы на север или на юг, — соответственно изменениям в карте на его пути, мы найдем меняющийся человеческий тип.
Людей с деревьями
Я хотел бы здесь сравнить:
Бамбук упрям, горицвет опасен есть,
Глуп подсолнух
И несносна лебеда.
Глава вторая
ПУТЕШЕСТВИЕ
Я уехал из Москвы ранней весной.
Человек на платформе два раза ударил в колокол.
Я вскочил на подножку вагона. Поезд, ускоряя ход, понесся мимо окраин, мимо сельских советов с выцветшим рыжим флагом на крыше.
Ночью мы проехали верховья Волги. Вокруг поезда появились лесистые холмы. Я увидел разрытые, дремучие и застроенные площадки новых сталелитейных заводов.
Я спал, когда поезд шел покрытой туманом степью Западной Сибири. Проснувшись, я увидел Байкал, сверкающий льдом среди гранитных сопок. Здесь я вышел на станцию. Весенний мороз сдавил мое дыхание.
Я увидел монгольских крестьян в треугольных колпаках, обшитых красным шнуром. Все, что пишут антропологи, было правильно, — у них были куполовидные макушки, небыстрые движения, плоские неподвижные лица. Я увидел ползущие сверху вниз завитки бурятского письма на стенах домов. Тихий город, окруженный холмами.
На рассвете я отправился в санях в Селенгинскую сельскохозяйственную коммуну. То, о чем писали этнографы, оказалось вздором. Бурятские коммунары ничем не отличались от волжских.
Ландшафт изменился. Извилистые и горбатые колеи всползали на вершину Яблоновского хребта.
Из Хабаровска я выехал в район в составе комиссии рабочего контроля. Нас было четверо. Мы видели верховья рек Алдана и Якокута. Две недели работали в городе Томмот, основанном в тундре осенью 1922 года. Здесь население было смешанное и представляло все человеческие типы.
Мы жили в клубе золотоискателей, украшенном ситцевыми плакатами:
«Комсомолец! Увеличивай добычу золота!»
Я приехал на Камчатку. Шла красная рыба. Был на консервных заводах. Кончилась подготовка к сезону. Над немыми еще трубами завода был виден дальний пап Ключевского вулкана.
С Камчатки я возвращался через Японию на пароходе «Хуашан», зафрахтованном Совторгфлотом в Шанхае.
На «Хуашане» велась скрытая война. Матросы и отгрузочная команда были китайцы, капитан — норвежец, был кореец — радист, были японцы — приказчики закупочной фирмы. Презирали друг друга, говорили на ломаном языке, не желая понимать ничего, что не относилось к авралу и к мытью палубы. В камбузе возились четыре повара, обслуживая четыре системы желудков. Капитан ел сандвичи и бифштексы, команда варила себе щи из морской капусты, японцы ели рис и курицу с соей. Каждый, с кем мне приходилось оставаться наедине, считал своим долгом высказать несколько суждений о характере обитателей этой посуды. Говорилось так:
— Китайцы — самая грязная и тупая сволочь, которую видел мир.
Или еще так:
— Макакам свойственна самая тупая и бездарная жестокость. Все они — обезьяны. Ни один японский ученый ничего не изобрел.
Или так:
— Все норвежцы — пьяницы. Тупая и бездарная нация.
— Кореец… ну, посмотрите в его тупые воловьи глаза.
Все, говоря о своих соотечественниках, впадали в безудержное самохвальство или во внезапную пессимистическую брань.
— Мы, норвежцы, — викинги моря…
— Никогда ничего не сделаем, — в нас кипит каша абсолюта. Мы бесхарактерны… (Это говорил капитан.)
— Мы — японцы, — этим все сказано.
Даже стивадор, до удивления похожий на сморчка, вечно пьяный и нудный старичок-японец, высокопарным языком проповедывал пошлую философию.
— Всякий японец есть сын своего народа, — говорил он по-английски с устрашающей авторитетностью. — Каждый японец беззаветно предан императору. Другим народам красота нашего духа недоступна, господин. У нас в каждом крестьянине много веков культуры. У нас есть аграрии, есть социалисты, но каждый — сын своих отцов…
Почти то же, но на другой лад, я ежедневно слышал о японцах от капитана.
— Всякий японец — тайна, — утверждал он. — То, что мы называем у европейцев душой, подменено у японца скоплением инстинктов и страхов: инстинктом подражания, страхом перед бесчестием, страхом перед полицией, соединенными с поистине животным бесстрашием в бою.
С удивительным однообразием и друзья и враги одинаково утверждали вещи, которыми нельзя было не заинтересоваться. Говорилось о самоубийстве вдов, не желавших пережить мужа, о слугах, разрезавших себе живот, потому что хозяина их заподозрили в нечестности. Объясняли японский характер кодексом чести «бусидо», въевшимся в кровь каждого с детства. Приводили в пример восемь благородных поступков Таро, генерала Ноги, подвиг Хироса, порт-артурского героя, который потопил себя на брандере, закрыв вход в бухту.
В этой стране герои возникали, как в царской России чудотворные иконы.
Была, например, далекая тихая пустынь. Небогатый монастырь. Скупые дарители. Монастырь прозябал.
Но в тишине вечеров старательный монах уже сидел над неизвестной миру иконой, краски покрывал мглой веков и в трубочке прилаживал к раме «богородицыны» слезы.
Так и здесь, в глуши далеких колоний, десантных бригад, дивизий, провинциальных островов, на холодном Карафуто, из шестидесяти миллионов людей время от времени появлялся человек, которого объявляли героем.
Я говорил так:
— Часто — это реклама.
— А трое японских солдат, взорвавших себя в Шанхае, — это реклама?
— Еще не доказано, что они себя взорвали, а не их взорвали.
Тогда мне приводили в пример мадам Хираока.
— Это истеричка, — говорил я.
— Но она себя убила!
— Мадам Хираока — истеричка. Она начиталась газетных фельетонов. Одна истеричка на шестьдесят миллионов убила себя, — газеты уверяют мир, что такова Япония.
— Но мотивы самоубийства, — говорили мне.
История мадам Хираока состояла вот в чем. Муж мадам Хираока был в Шанхае. Он участвовал в десантной экспедиции против китайцев. Мадам Хираока мирно оставалась в Токио. И вот однажды стало известно, что мадам Хираока убила себя. Текст оставленной ею записки был в старинном стиле: «Я прерываю жизнь, чтобы господин муж, не отвлекаясь мыслями о недостойной жене, мог положить свои силы на борьбу с врагом». Глупость! Вздор! Даже в японских военных кругах пожали плечами. Муж мадам Хираоки сказал: «Она всегда была сумасшедшая».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: