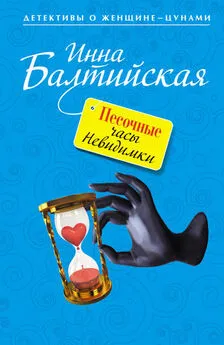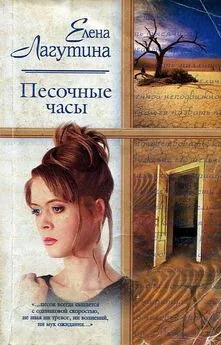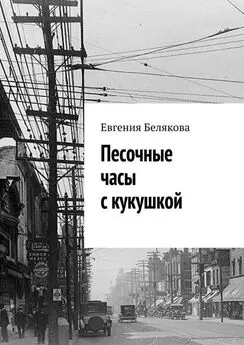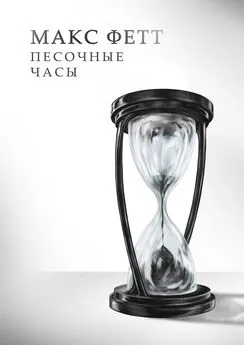Ирина Гуро - Песочные часы
- Название:Песочные часы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Гуро - Песочные часы краткое содержание
Ирина Гуро, лауреат литературной премии им. Николая Островского, известна как автор романов «Дорога на Рюбецаль», «И мера в руке его…», «Невидимый всадник», «Ольховая аллея», многих повестей и рассказов. Книги Ирины Гуро издавались на языках народов СССР и за рубежом.
В новом романе «Песочные часы» писательница остается верна интернациональной теме. Она рассказывает о борьбе немецких антифашистов в годы войны. В центре повествования — сложная судьба юноши Рудольфа Шерера, скрывающегося под именем Вальтера Занга, одного из бойцов невидимого фронта Сопротивления.
Рабочие и бюргеры, правители третьего рейха и его «теоретики», мелкие лавочники, солдаты и полицейские, — такова широкая «периферия» романа.
Песочные часы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Потому что он был человеком, точно какой-то удивительный компас всегда нацеленным на бурю.
Опускаясь на низкую деревянную скамейку, вкопанную обочь, посетитель вытер вдруг проступивший на лбу пот. Зачем он пришел сюда? Отдать дань другу? Но не друг, а враг его покоился здесь. Он пришел не затем, чтобы вспомнить, а затем, чтобы не забывать. И хотя надпись на плите, имя и фамилия, даты рождения и смерти — все было точно, все сходилось… Хотя это было именно то, что он искал, — он все же не отрывал глаз от надписи, будто ожидая, что из хвостатых готических букв выступит что-то еще.
И действительно, вскоре буквы и цифры как-то померкли, потом словно разбежались, рассыпались и развеялись по ветру. По ветру, который один оставался таким же, каким был тридцать лет назад.
Глава первая
1
В тот день уже с самого утра стояла страшная жара. Городок просто плавал в зное. Когда я шел к электричке, на узкий тротуар передо мной выскочила из какого-то подъезда растрепанная девка, раскрашенная «вечерними красками». В этот час она так дико выглядела со своими зелеными волосами, рассчитанными на электрический свет, с мертвецки-синими веками и малиновыми мочками ушей, что нехитро было посчитать встречу с ней дурным предзнаменованием.
Когда она грубо выругалась, я даже немного поуспокоился, сообразив, что из дома ее, конечно, вытолкали. И в том самом виде, в каком затолкали сюда вечером. По нынешним временам все было в норме. И никакой мистики.
Восемь лет назад здешние бюргеры и во сне не видели ничего подобного. Я ведь был тогда уже большим парнишкой — десять лет! И помню, как по улицам ходили беленькие фрейлейн со скромно опущенными глазками, с золотыми медальонами на черных бархотках, обвитых вокруг тоненькой шейки. При них даже такое слово, как «кобыла», к примеру, страшно было выговорить…
Я поймал себя на том, что мысленно нарисовал портрет Анни. Она и сейчас носила медальон. Это при ней я все время боялся сказать что-нибудь вроде «кобылы». Я ни за что не поселился бы в их доме, если бы мне прямо не указали на него. Интересно, почему? Сам папаша Симон уж так далек «от всего»… Он, по-моему, вообще ничего не хочет знать, кроме своего магазина. Тоже мне магазин, — Кауфхауз дес Вестенс, Тиц, Вертхейм!..
Паршивая лавчонка. Плюнуть некуда! Когда Симон сидит там, втиснутый между банками, мешочками, сырами и окороками, все — с пестрыми этикетками, он похож на туго набитый чемодан с наклейками. Я ни разу не видел в его руках не то что книги, но какой-нибудь другой газеты, кроме «Ангрифа». Впрочем, Анни говорила, что «при старом порядке» отец был совсем другим. Не думаю. А впрочем, что они мне? Мне же было сказано, что в самое ближайшее время я должен отсюда смыться, исчезнуть, испариться… Никогда больше не увижу плоское, малоосмысленное лицо Симона. И Анни… Да, ее тоже я не хотел видеть. Я был слишком мал, когда жил здесь. Тогда… «До всего». А потом мне уж, к счастью, не попадались такие овцы, как Анни. А ведь ей уже семнадцать.
Я сел в вагон для курящих, развернул купленную на вокзале «Фелькишер беобахтер», накрылся ею и заснул. И проспал всю дорогу, открыв глаза оттого, что какой-то шутник крикнул мне в самое ухо: «Ты что, на всю жизнь поселился под этой крышей?»
Мы уже стояли на вокзале «Фридрихштрассе». С толпой я вышел на площадь, наполненную зноем, как миска — горячим супом.
Свет, которым было залито все вокруг, показался мне неестественным, словно это был не солнечный свет, а озарение каких-то мощных юпитеров.
Наглый, нахрапистый свет проникал во все закоулки. Я заметил, что под полосатым тентом магазина колониальных товаров не было тени. А на двери известный лозунг: «Одно государство, один народ, один фюрер» — просто горел на солнце, как золотая грамота. Этот свет показался мне опасным — так я почему-то его воспринял. Он был каким-то «раскрывающим»: это мне не подходило.
Но я тут же привычно погасил эти глупые, хотя в моем положении извинительные, фантазии и двинулся к переходу.
Я дошел до асфальтового островка посреди мостовой. И в это время дали красный свет. Рядом со мной остановился человек с собакой. Я сначала посмотрел на собаку — здоровенную овчарку, но почему-то в шлейке, словно щенок. А потом перевел глаза на хозяина и увидал, что он слепой: на рукаве у него была желтая повязка с большими черными кругляшами. А так ничего не было заметно: глаза скрывались за синими стеклами. Лицо, даром что я видел его считанные минуты, мне словно врубилось в память. Может быть, потому, что этот ужасный свет так раскрыл его. Со всей жесткостью и как бы застывшей в морщинах безысходностью.
— Разрешите, я вас переведу через улицу, — сказал я и чуть-чуть, — мы же и так стояли совсем рядом, — придвинулся к нему…
Но тут, абсолютно синхронно, собака рыкнула на меня, скосив красный глаз, и слепой заорал, словно я наступил ему на ногу:
— Отстаньте от меня!
В ту же секунду овчарка ринулась вперед и уволокла этого ненормального. Мне показалось, прямо под машины… Но нет, они уже остановились: стекло светофора окрасилось ярко-зеленым.
«Как их так выучивают?» — подумал я. Но мысль об овчарке была мимолетной и легкой: на нее, как черная туча, надвинулась другая, очень важная, непереносимая для меня. И опасная, как этот свет. Как весь этот день. Эта мысль была четкой, ярко освещенной, как лозунг насчет государства: «Я здесь никогда ничего не пойму. Я здесь никогда не привыкну».
Стоило ли из-за этого психа делать такое обобщение? Но я уже не мог совладать с собой. Однако продолжал делать то, что полагается.
Сейчас мне надо было петлять. Я выбрался из толпы простейшим способом: свернул направо, на безлюдную Егерштрассе. Огляделся — никого. Тогда я зашагал к подземке. Спустился. Пропустил поезд, чтобы снова «провериться». Никого не было. На пустом перроне я торчал один-одинешенек. Со стороны можно было предположить, что я пропустил свой поезд спьяну или по рассеянности. Подождав следующий, я доехал до узловой станции и пересел в поезд, идущий по направлению Крумме Ланке.
Не доезжая до конечной остановки, я вышел, опять проверился, просто так, для порядка. И пошел к себе… Это у меня называлось «к себе». И правильно называлось. Только здесь, в подвале нежилого полуразвалившегося дома с заколоченными окнами и прохудившейся крышей, к тому же со всех сторон окруженного зарослями бузины, орешника и какого-то неизвестного мне кустарника с листьями, похожими на раскрытую ладонь, — только здесь я был у себя.
Больше того: самим собой. Легчайший птичий писк морзянки, нервное подрагивание ключа, всего лишь несколько считанных, привычных, мелких движений… И я становлюсь самим собой. Сыном своих папы и мамы. Своих. А не каких-то Эльзы и Петера Занг, которые значатся в моих документах…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: