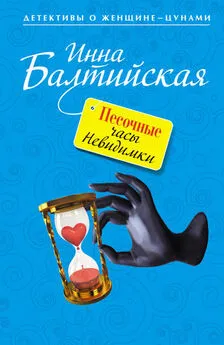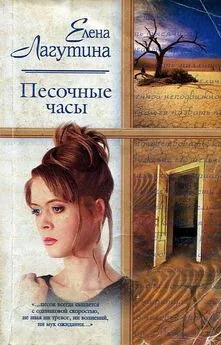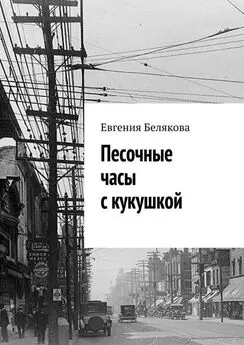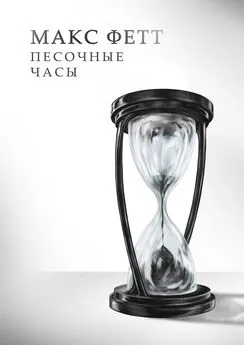Ирина Гуро - Песочные часы
- Название:Песочные часы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Гуро - Песочные часы краткое содержание
Ирина Гуро, лауреат литературной премии им. Николая Островского, известна как автор романов «Дорога на Рюбецаль», «И мера в руке его…», «Невидимый всадник», «Ольховая аллея», многих повестей и рассказов. Книги Ирины Гуро издавались на языках народов СССР и за рубежом.
В новом романе «Песочные часы» писательница остается верна интернациональной теме. Она рассказывает о борьбе немецких антифашистов в годы войны. В центре повествования — сложная судьба юноши Рудольфа Шерера, скрывающегося под именем Вальтера Занга, одного из бойцов невидимого фронта Сопротивления.
Рабочие и бюргеры, правители третьего рейха и его «теоретики», мелкие лавочники, солдаты и полицейские, — такова широкая «периферия» романа.
Песочные часы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но я слушал ее речь, искренне умиляясь, так как не сомневался, что Альбертина приехала за мной, и уже видел себя в «Песочных часах».
Действительно, после полуторачасовой трепотни последовала команда Цоппена:
— Вальтер Занг, три шага вперед!
Я вышел из строя. Цоппен с пафосом прочел наизусть приказ о том, что за отличную работу «доброволец труда» Вальтер Занг отпускается досрочно из трудбатальона «Викинг».
Полчаса назад этого приказа в природе не существовало; подозреваю, что он был импровизацией добряка Цоппена.
Когда мы уселись в автомобиль, Альбертина трагическим шепотом сообщила мне, что фрау Гутенкропер «наконец скончалась», — она перекрестилась.
— Кто это? — оторопело спросил я, не успев еще прийти в себя от нового поворота судьбы.
— Как, ты забыл? Это та старая госпожа, место которой я должна занять в пельтовском Доме…
Она ожидала изъявления каких-то чувств с моей стороны: то ли печали по усопшей, то ли радости в связи с освободившимся местом в Доме.
Но я как-то не собрался, что Альбертина расценила по-своему:
— Не огорчайся, мой мальчик! Ты будешь навещать меня! А сегодня ведь у нас — особенный день…
Она, очевидно, имела в виду мое вызволение из «Викинга», так я понял.
И очень удивился, когда Альбертина пригласила меня к столу, роскошно, не по нынешнему времени, накрытому. Посредине него красовался мой любимый яблочный торт с воткнутыми в него тонкими разноцветными свечками…
Альбертина скрылась в свою комнату, а я сидел перед всем этим великолепием и смотрел на торт, как баран, получивший телеграмму.
Альбертина появилась в веселеньком платье в белый горошек.
— Зажги все свечи, Вальтер, — продребезжала она. — Неужели ты и это забыл? Сегодня же твой день рождения!
«Моего рождения?!» У меня вовсе выскочила из головы дата, указанная в паспорте Вальтера Занга.
— Как это мило с вашей стороны, фрау Муймер! — с облегчением вздохнул я и заткнул за воротник салфетку, накрахмаленную, как в лучшие времена.
2
В газетах появилась новая аллегория: аллегории и ссылки на древних были по-прежнему в большой моде.
В психологическом отношении, оказывается, внезапно обнаружилась «ахиллесова пята немецкого солдата»! Наметились «большие психологические прорывы». Припомнили, что тяжелые бои на Сомме и на Эне за так называемую «линию Вейгана» тоже вызывали подобные «психологические феномены».
В связи с этим из уст в уста, — а где-то ее и читали, — передавали статью из женевской газеты о Красной Армии.
Военный обозреватель писал, что мужик эпохи царизма носил оружие как неизбежное зло, а красноармейцу хорошо объяснили, что сражаться за социалистическое отечество является для него честью. И — что всего значительнее — он призван выполнить интернациональную миссию: «Коммунисты очень ловко сумели превратить Красную Армию в своего рода огромную школу для распространения своих идей…»
Статья получила широкую аудиторию благодаря своему серьезному тону и объективным суждениям, не присущим официальной прессе.
Особенно пугающе звучало для обывателей утверждение, что командный состав Красной Армии знает иностранных стратегов, что даже в Германии специальные издания для офицеров генерального штаба не имели такого распространения, как в Советском Союзе. А методы молниеносной войны известны русским еще со времен Клаузевица, не говоря уже о фон Шлиф-фене и Кохенгаузене.
Не утешали и выводы статьи о том, что мужество— не только стихийное качество русских, но плод усиленной тренировки тела и духа.
Все эти суждения и слухи накладывались, словно калька на карту, на обстановку катастрофы в городе. Хотя на разборку развалин выгонялось поголовно все население, это мало что давало, потому что новый день означал новые разрушения. От авиации меньше всего страдали промышленные предприятия, а более всего — жилые кварталы.
Но и это не было главным. Главное заключалось в том, что наступление русских стало последовательнопобедным.
Листовка, которую я привез из Гамбурга в виде образца на линолеуме, — наш товарищ, модный сапожник с набережной Альстера, мастерски заделал ее в мой каблук, — представляла собой письмо пилота из отряда дальних разведывательных самолетов.
В перехваченном письме воздушного аса и партайгеноссе, после нелестных эпитетов по адресу Геринга, заявлявшего клятвенно, что никогда в небе над Германией не появится вражеский самолет, следовали трезвые мысли о мощи русского оружия.
О том, что «большевики стреляют орудийными снарядами с учебных самолетов. Они моментально используют трофейное оружие. Они создают военные отряды из колхозников. Они переправляются через реки, даже когда у них нет необходимых средств. Подводя свои резервы, они тут же, прямо с марша, бросают их в бой…». «Не проходит ни одного дня, чтобы русские не продвигались вперед…» «Они постоянно работают над укреплением и улучшением своих позиций, строят дороги и укрепления там, где даже нет военных операций…» «Большевик борется до последних сил. Он использует в своей борьбе тысячи средств. Широко применяют мины, маскировку и засады…»
По страсти к аналогиям, какой-то газетчик сравнил Гитлера с Людендорфом. Оказалось, что свою аналогию он почерпнул из швейцарской газеты, где делался намек на поражение в 1918 году. Официальная пресса призвала к более продуманному употреблению исторических параллелей.
Невеселое надвигалось рождество, но все равно все тащили маленькие и большие елки, а в витрине Вертхейма выставили заводную игрушку: «Доблестные пехотинцы овладевают опорным пунктом большевиков». Орудия стреляли орешками «фундук», а танки скрежетали траками из выбракованной стали.
С Генрихом я виделся после своего возвращения только однажды. Мне показалось, что он как-то помолодел, распрямился.
Я знал, что он потерял близкого друга: его имя значилось первым в новом списке казненных, и все же у Генриха был счастливый вид, когда он сказал: «Вальтер, мы сейчас на самой высокой волне. Пусть мы не океан, Вальтер, даже не море… Но наша река течет в океан».
Генрих вызвал меня условным телефонным звонком.
Мы встретились на Потсдамерплац в час, когда там была в разгаре святочная толчея. Нам удалось занять столик в битком набитом дешевом кафе только благодаря тому, что старший кельнер считал Генриха в его роскошной шубе «деятелем» и называл его «уважаемый партайгеноссе профессор».
— Сегодня я тебя обрадую, мой мальчик, — сказал Генрих.
— Вы меня всегда радуете.
— Спасибо, — ответил он серьезно, — но это радость особая: я получил привет от твоего отца.
Все закачалось у меня перед глазами, я не мог спросить… Конечно, я понимал, что где-то на больших путях есть связь. Но мог ли я рассчитывать на то, что в ней найдется возможность лично для меня…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: