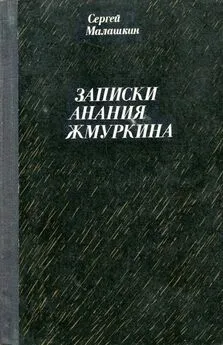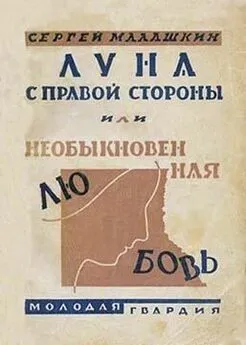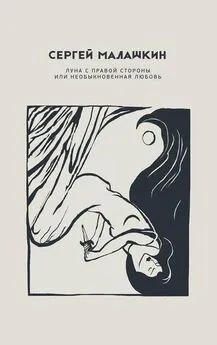Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина
- Название:Записки Анания Жмуркина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Малашкин - Записки Анания Жмуркина краткое содержание
Сергей Иванович Малашкин — старейший русский советский писатель — родился в 1888 году, член Коммунистической партии с 1906 года, участник первой мировой войны и революций 1905 и 1917 годов. Его перу принадлежат сборники стихов: «Мускулы» (1918), «Мятежи» (1920), стихи и поэмы «Мышцам играющим слава», «О современность!», «Музыка. Бьют барабаны…» и другие, а также романы и повести «Сочинение Евлампия Завалишина о народном комиссаре и нашем времени» (кн. 1, 1927), «Поход колонн» (1930), «Девушки» (1956), «Хроника одной жизни» (1962), «Крылом по земле» (1963) и многие другие.
Публикуемый роман «Записки Анания Жмуркина» (1927) занимает особое место в творчестве писателя. В этом широком эпическом полотне, посвященном российскому пролетариату, автор правдиво отражает империалистическую войну и начало революции.
В романе действуют представители разных классов и политических убеждений. Ярко и зримо воссоздает писатель мир рабочих, крестьян и солдат-фронтовиков, прозревающих в ходе описываемых событий.
Записки Анания Жмуркина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Нет, — ответил я, — он просто интересная личность. У него два выражения на лице, будто оно составлено из двух разнородных частей. Вы удивлены? Не вру. Он таким с позиции вернулся в лазарет. Одна половина его лица смеется, а другая в это же время, верхняя, плачет. И вы видите в одно время на его лице смех и слезы.
Старик резко отстранился от меня, его глаза расширились. В них появился страх какой-то и отразилось недоверие ко мне.
— Как вас найти, господин? — спросил я спокойно.
— Моя фамилия Успенский, — сказал он, все еще дико и со страхом глядя на меня, — а квартирую я на Звенигородской. — И он назвал номер дома и квартиры. — Вы говорите, лю-ли, у Прокопочкина… Я не встречал людей с такими лицами. Что ж, милости просим… заходите. А вот, лю-ли, и богоискатели вошли, — и он показал взглядом на вошедших, шепнул: — Философов, Батюшков и Бердяев. Взгляните на их помятые и постные апостольские рожи. Жулики, доложу вам, — сказал он шепотом, — первостепенные; хотя, лю-ли, они и друзья мои. Когда станете четвертовать этих мошенников, я приду помогать вам… Лю-ли.
Богоискатели подошли к столу и сели. Время текло незаметно, быстро. Успенский понравился мне: было в нем что-то интригующе-грубое и приятное. Его лицо помято, и его толстовка засалена на груди; видно, что и он, как три богоискателя, вошедшие только что в зал, прополз на брюхе не одно философское логово, а много-много за свою жизнь. «Надо побывать у него», — решил я. Зинаида Николаевна поднесла к голубым шарам лорнет и посмотрела на гостей. Сквозь ее голубые рукава, пышные, просвечивали тонкие руки.
— Кого мы ждем, господа, они скоро придут, а сейчас, чтобы не терять времени, предоставим слово поэту Мусаилову.
Поднялся невысокий, в черном поношенном сюртуке человек, поклонился хозяйке, прошел к концу зала, обернулся лицом к гостям и начал сиповатым голосом завывать. Он выл, а на его невероятно плоском лице цвели сивые глаза и розовый носик. Казалось, что носик и глаза были не его, а чужие: их кто-то прилепил к его плоской, невыразительной физиономии, вот-вот поднимутся и, как бабочки, улетят. Он выл о море, о днях сверкающих жар-птицами, о крыльях души, опаленной войной, о женщинах с глазами медуз, которым никогда не надо верить — обманут, и о пророке, идущем путями, ему неведомыми. Мусаилов кончил читать стихи и скользнул на свое место. Слушатели аплодисментами проводили его. Из коридора вошли запоздавшие гости. Среди них был и тот, кого весьма ждали, кто должен выступать со стихами. Все чрезвычайно оживились. Хозяйка встала, подняла лорнет к глазам. Ее голубые пузырчатые рукава ярче вспыхнули и засияли дымкой эфира. Офицер с георгиевским крестом на крутой груди улыбнулся толстыми губами Зинаиде Николаевне; не сгибая гордой головы, он взял ее протянутую руку, похожую на заснувшую змею, и поцеловал.
— Ходит в громкой славе, — шепнул Успенский и, положив пухлую ладонь на мою, пояснил еще тише: — Но его слава не лучше моей толстовки. Моя толстовка засалена соусами… а его слава — похвалами. Но все же, лю-ли, — прибавил он, нажимая ладонью на мою, — пишет острые стихи, до того острые, что хочется слушать и читать их. Слушай. Добрейшая хозяйка предоставила ему слово. Правда, что она, лю-ли, похожа на голубую козюлю?
Офицер, глядя блестящими глазами на Пирожкову, стал читать густым голосом. Гости уставились в его сторону, а он, шевеля толстыми, чуть вывернутыми губами, читал:
И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.
Я снова закрываю глаза. Вокруг мрак. А в нем — всадник в полицейской шайке. Конь его грузен, неподвижен — этому всаднику не надо ехать ни вперед, ни назад. Он уже давно приехал. Время как бы остановилось, и только густой, срывающийся голос поэта все гудит и гудит из снежного мрака:
Но не надо яства земного
В этот светлый и страшный час,
Оттого что господне слово
Лучше хлеба питает нас.
Меня сводит судорога от этих слов, и я открываю глаза: лица у слушателей умильно-печальные, одухотворенные. Кажется, что и они, находясь в голубом свете салона, как и воины на поле сражения, чувствовали трепет ангельских крыльев над собой и за своими плечами. Поэт-офицер кончил, сел рядом с хозяйкой. Ему долго рукоплескали. Потом — тишина. Было слышно, как Батюшков, Философов и Бердяев вздыхали. Пирожков вскочил с кресла и, поблескивая белыми искусственными зубами из аккуратной, цвета кедровых орехов бороды и сияя бледно-серыми глазами, прошелся, сел в кресло и взмахнул восхищенно руками. Какая-то дама густо высморкалась в голубой платочек. Зинаида Николаевна сияла голубыми холодными шарами очей, ждала, когда ангелы и серафимы перестанут кружиться, сядут на подоконники. Успенский достал из кармана толстовки платок и помахал им в воздухе. Поступок моего соседа, как заметил я, не понравился хозяйке и многим гостям: они приняли его поступок за насмешку над ними. Казалось, мой сосед маханием платка испортил все их очарование, полученное ими только что от стихов поэта-офицера: он разогнал всех ангелов и серафимов.
— Модест Азархович, — обратилась хозяйка к Успенскому, — вы просите слова?
— Не надо мне слова, Зинаида Николаевна, — всколыхнулся мой сосед. — Я только, лю-ли, платком отмахнулся от серафимов, чтобы они не производили шума у меня над головой. Не мог не помахать. Вот только нехорошо, что серафимы прячутся за плечами воинов. Пусть бы они, лю-ли, повоевали вместо воинов. И у нас, в России, на несколько миллионов стало бы меньше убитых и калек. Слишком у нас, лю-ли, много прячется серафимов за спинами воинов.
Зинаида Николаевна, не дослушав, брезгливо отвернулась.
Философов пожал капризно плечами и постучал пальцами по столу. Бердяев положил пирожное на тарелку и, посапывая, молча стал трудиться над ним. Офицер-поэт, бросив взгляд на Успенского и пошевелив толстыми губами, ухмыльнулся и сел на стул недалеко от Пирожкова, шептавшего что-то рыжеволосой и сухопарой женщине, лицо которой было украшено большим синим носом. Зинаида Николаевна, держа лорнет у голубых глаз, остановила взгляд на Игнате. Тот побледнел, потом покраснел и потупил глаза. Она снисходительно улыбнулась ниточками губ и перевела голубые шары на Опута.
— Господа, сейчас прочтет свои стихи поэт-солдат… — и Опут, назвав фамилию Игната, сел.
На меня стихи поэта-офицера произвели сильное впечатление.
Тишина.
В ней, если верить поэту-офицеру, серафимы ясны и крылаты, нет нищеты, крови и слез, сочится вместо них небесный мед. На лицах воинов — счастье. Но ведь повесился же в уборной лазарета не серафим ясный и крылатый, а Семен Федорович. Игнат Денисович у стола, кто-то из гостей уступил ему стул. Он виден всем. Я стал смотреть на его профиль, белоснежную повязку на голове. Его желтые губы шевелились. С них срывались не строки стихов, а тяжелые камни. Что он выкрикивает? Это бред? У Зинаиды Николаевны и у других дам от каждого его выкрика вытягиваются все больше и больше физиономии, становятся круглее глаза. Лухманов, стоя прямо, как каменное изваяние, выбрасывал камни, катил их:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: