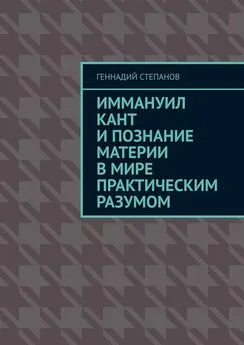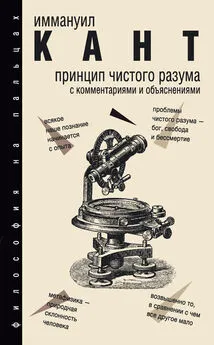Иммануил Кант - Иммануил Кант. Критика чистого разума. Критика практического разума. Критика способности суждения (сборник)
- Название:Иммануил Кант. Критика чистого разума. Критика практического разума. Критика способности суждения (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Э
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-091830-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иммануил Кант - Иммануил Кант. Критика чистого разума. Критика практического разума. Критика способности суждения (сборник) краткое содержание
Иммануил Кант. Критика чистого разума. Критика практического разума. Критика способности суждения (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Такой синтез содержания чувственного представления, возможный и необходимый априори, может быть назван фигурным (synthesis speciosa, figürlich); он отличается от синтеза содержания, который вообще предполагается в категории и называется рассудочным (synthesis intellectualis); оба – трансцендентальны, не только потому, что оба совершаются априори, но и потому, что условливают априори возможность других познаний.
Этот фигурный синтез должен быть назван трансцендентальным синтезом воображения, в отличие его от просто рассудочного, ибо отличительный характер первого есть первоначальное синтетическое единство самосознания, т. е. то трансцендентальное единство, которое мы мыслим в категории. Воображение есть способность представлять себе отсутствующий предмет. Так как всякое наше представление имеет чувственный характер, то воображение относится к области чувственности, тем более что оно может выражать понятие рассудка в соответствующих представлениях только чувственным путем. Так как синтез воображения есть выражение определяющей, а не определяемой самодеятельности, и так как оно априори, сообразно единству самосознания, может определять чувство со стороны его формы, то воображение можно назвать способностью, определяющею чувственность априори. Его синтез представлений по категориям называется трансцендентальным синтезом воображения, в котором выражается влияние рассудка на чувственность и обнаруживается первый шаг его к обработке предметов нашего представления. Как фигурный, он отличается от просто рассудочного синтеза без участия воображения. Как самодеятельность я называю его иногда воображением производительным и тем отличаю его от воспроизводительного; синтез последнего подчинен одним опытным законам, именно законам союза представлений, и потому нисколько не объясняет возможности познания априори; его нужно рассматривать в психологии, а не в трансцендентальной философии.
Здесь следует обратить внимание на одну странность, которую мы, по-видимому, допустили, говоря о форме внутреннего чувства (§ 6): именно мы сказали, что оно показывает нам нас же самих только с той стороны, с какой мы себе являемся, но не в том виде, в каком мы существуем сами в себе; мы наблюдаем только внутренние впечатления. Здесь заключается, по-видимому, противоречие: выходит, как будто мы относимся к себе самим страдательно. Оттого в системах психологии внутреннее чувство обыкновенно смешивается со способностью самосознания (что мы тщательно различаем).
Внутреннее чувство определяется рассудком, его способностью соединять содержание представлений, т. е. возводить их к самосознанию (в этом заключается его смысл). Но дело в том, что рассудок наш неспособен наглядно представлять и не может принимать внутрь себя наглядных чувственных представлений, дабы соединять разнообразное содержание как бы своих собственных представлений. Поэтому синтез его сам по себе есть единство действия, совершенно независимое от чувственности; им он может только внутренне определять разнообразное содержание чувственных представлений. В качестве трансцендентального синтеза воображения рассудок действует на страдательный субъект, которому он и сам принадлежит как его способность, и значит, справедливо утверждать, что внутреннее чувство испытывает его влияние. При этом нужно помнить, что самосознание и его синтетическое единство совершенно отличаются от внутреннего чувства; первое как причина всякого сочетания посредством категорий имеет дело с содержанием представлений вообще или, лучше, с предметами вообще прежде, нежели между представлениями явятся чувственные; напротив, внутреннее чувство заключает в себе только одну форму представления, но не соединяет его содержание, следовательно, не имеет дела с определенными представлениями; ибо определенность является только тогда, когда мы сознаем те определения представлений, которые производятся трансцендентальным действием воображения (синтетическим влиянием рассудка на внутреннее чувство), что названо мною фигурным синтезом.
Все это доказывается нашим самонаблюдением. Невозможно мыслить линию, не проводя ее мысленно, – мыслить круг, не описывая его, – представлять три измерения пространства, не восстановляя при этом из одного пункта трех линий перпендикулярно одна к другой; невозможно представлять самого времени, не пользуясь образом прямой линии (она служит внешним фигурным представлением времени); линия напоминает нам синтез, которым мы последовательно определяем внутреннее чувство; постепенно проводя ее мысленно, мы обозначаем именно последовательность самого определения. В этом случае понятие преемства возникает из умственного движения, как действие субъекта [но как объективного определения], следовательно, из синтеза разнообразного содержания в пространстве, именно таким путем, что мы отвлекаем от всего, что есть в линии пространственного, и обращаем внимание только на одно действие, которым мы определяем свое внутреннее чувство. Таким образом, рассудок не находит во внутреннем чувстве готового соединения, но производит его тем, что действует на него. Здесь возникает одно только небольшое затруднение: каким образом мыслящее «Я», отличаясь от самосозерцающего, может быть одно и то же, одним и тем же субъектом, – каким образом я могу сказать: «Я» как мыслящий субъект познаю самого себя, как мыслимый предмет не в том виде, в каком я существую сам в себе, а в каком являюсь, т. е. познаю себя точно так же, как и все другие внешние явления. Вопрос этот, в сущности, требует ответа на то, каким образом я могу стать вообще предметом самопредставления и самонаблюдения. Но что это так и должно быть, нетрудно доказать. Пространство мы признали только чистою формою внешних явлений, но так как время не может быть предметом внешнего представления, то его нельзя иначе представлять себе как под образом линии: без этого образного выражения мы не могли бы знать о единстве его измерения; значит, наподобие изменений во внешних предметах мы определяем продолжительность и временные пункты всех внутренних состояний. Следовательно, определения внутреннего чувства как явления должны так же точно распределяться во времени, как распределяются предметы внутренних чувств в пространстве; принимая, что предметы и пространства познаются только со стороны их внешних на нас влияний, мы должны будем согласиться, что посредством внутреннего чувства мы наблюдаем самих себя только со стороны страдательной, т. е. во внутреннем самовоззрении мы познаем собственное лицо как явление, а не как предмет сам в себе [6] Я не понимаю, почему находят особенно странным, что внутреннее чувство имеет дело только с внутренними впечатлениями, исходящими от нас самих. Это ясно из того, что мы называем вниманием. Рассудок заставляет при этом внутреннее чувство представлять нечто соответствующее мыслимому содержанию. Понятно, что при этом душа должна испытывать страдательное состояние.
.
Интервал:
Закладка: