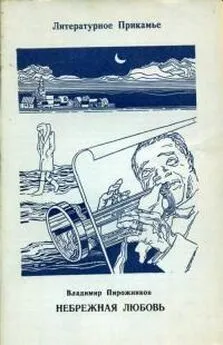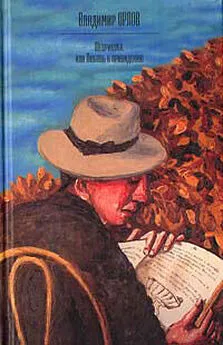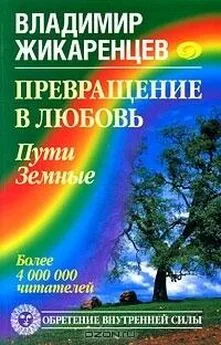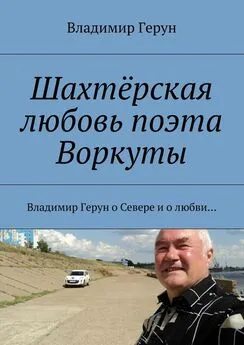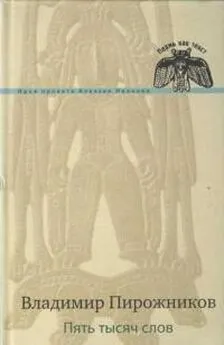Владимир Пирожников - Небрежная любовь
- Название:Небрежная любовь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пермское книжное издательство
- Год:1988
- Город:Пермь
- ISBN:5-7625-0126-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Пирожников - Небрежная любовь краткое содержание
Небрежная любовь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что же было дальше? Он вздохнул, поежился. Дальше начинались для него «времена смутные, незнаемые», где он уже ничего не мог ни придумать, ни представить. Он лишь видел, что жизнь, которая протекала тут до него, шла, в общем, к какому-то справедливому, равновесному итогу, поскольку нить времен не прервалась, продолжала виться теперь уже и через него, на тех же местах стояли те же, возникшие в глубокой древности, города, в тех же берегах текла Кама, так же прочно и твердо стоял собор, и еще мог простоять сотню лет — он верил в это, чувствовал, потому что существовало еще что-то, самое важное, названия чего он не знал, но что, как он понимал теперь, было духом всего: и вдохновенного миссионерского жития, и удалой песни казаков, и солидной мастеровитости людей, строивших собор; что прошло через вереницы ошибок, преступлений, кризисов — и все-таки жило и будет, может быть, жить вечно, и что он сейчас чувствовал в песне, доносившейся снизу, из села. Слов нельзя было разобрать, но само то, что здесь, в старине и глуши рождественской, дикой, торжественно-сказочной ночи пели русские люди, было почему-то так хорошо, так поднимало в душе какое-то незнакомое, сильное и простое чувство, что он задохнулся от внезапности ощущения своей незначительности и необязательности рядом с этой силой и этим величием, которые существовали без него, как бы сами по себе, и были проявлением той весомости, простоты и мощи, которая, наверное, и есть загадочный русский дух...
Он потоптался, огляделся кругом. Во всем, что он сейчас видел, — в белом снеге, черном небе, в серо-серебряной легкой пыли березовых облаков, окружавших собор, — во всем был скрыт какой-то непонятный немой вопрос, требующий от него ответа. Во всяком случае, он чувствовал, что не зря дана ему была эта загадочная картинка с собором, снегом и месяцем, какой-то смысл она явно имела, раз уж появилась в его жизни. Он попробовал притушить это чувство, неуверенно попытался зацепиться за привычную мысль о случайности, о хаосе, заполняющем всякое бытие, но тут же, словно оступившись на проторенной дороге, с неожиданной ясностью увидел, что ему ведь дано не какое-то бытие вообще, не безымянный, стерильно-чистый отрезок вечности, а вот эта, его собственная короткая земная жизнь — с этим вот снегом, с этим месяцем, с этим, а не другим собором, с селом, носящим старинное имя, и с городом, лежащим в глубине большой, широко и трудно живущей страны. Пытаясь жить лучше, чем она жила, страна эта, имеющая непростую историю и населенная людьми, говорящими на разных языках, напрягала силы и умы в поисках выхода из обременявших ее многочисленных проблем, думала, пробовала, ошибалась, горевала, побеждала, пировала и работала, и именно в ней, в ее не всегда складной судьбине должен был он искать смысл своего пребывания на земле, именно в ее трудах, невзгодах и радостях дано было ему все то, чем он мог наполнить свою жизнь, и только с нею, с этой страной, мог он разделить свои собственные, такие дорогие для него завоевания, сомнения и утраты...
Ему захотелось выйти за ворота, он повернулся, но в этот миг калитка отворилась и в прямоугольном вырезе ее показалась она — в той же шубке, пушистой шапочке, с заиндевевшими волосами — как часть того загадочного мира, который расстилался позади нее. Он помог ей перешагнуть высокий порог и, глядя на ее немного измученное морозом лицо с белым сахаристым пушком вокруг рта и тем особенным, живым и задумчивым блеском глаз, какой бывает у чутких женщин, когда они взволнованы чем-то, вдруг весь проникся трогательной прелестью ее одиночества, очарованием той непонятной ему ранее чистоты, которая вместе с детской глупостью, наивностью и бессознательной жестокостью делала ее каким-то красивым хорошеньким зверем, которого ни в чем нельзя было винить, потому что он мог жить только так, как хотел, и подчиняться только тем законам, которым подчиняется сама жизнь, а законами этими была неумолимая природа — самый высокий и самый древний закон. И ее ли вина была в том, что никто не понимал этого тончайшего, нежнейшего животного великолепия, этой неизъяснимо прелестной «примитивности», которая на самом деле была вершиной самых изощренных сложностей природы, была наполнена самым глубоким смыслом, но которая в бездне непонимания, в окружении скудной одномерной жизни не могла проявиться иначе, как жалкая, досадная пошлость! И самое жалкое, самое досадное, что трогало его едва не до слез, было то, что она сама никогда не знала в себе того, что он теперь в ней чувствовал, и никогда не поняла бы его, если бы он попытался ей это объяснить, и в этом состояло еще одно проявление ее прелести, как и то, что она мерзла сейчас перед ним, по-детски засунув руки в карманы, стояла на одной ноге, согнув другую, как цапелька... И когда он взял ее руки и, целуя и отворачиваясь, провел по ним щекой, она покорно шагнула к нему, глядя бессознательно куда-то в сторону на огни, которые мерцали так, будто кто-то дул на угли, лежащие в черной печи.
Он спросил ее, зачем она ходила в село; она ответила, что ей хотелось гадать, и он опять с волнением увидел в ней нечто большее, чем она, может быть, на самом деле была. Он ощутил в ней, избалованной и чересчур смелой городской девчонке, робость и неуверенность, пугливое стремление предугадать судьбу, он почувствовал в ней извечную склонность женщины к языческому идолопоклонству, к мистическому таинству колдовства, эту милую, до фантастичности тонкую духовность русских девушек, которая делала истиной самые невероятные чудеса... Он, смеясь и целуя ее ставшие уже теплыми руки, вспомнил про то, как в крещенский вечерок девушки гадали, и про то, как они за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. А что еще мог он вспомнить? Ведь она уже смотрела на него прямо, близко были ее глаза с их невольной и радостной игрой ресниц, бровей, блеска — и блеск этот сливался для него с освещением всей этой удивительной ночи...
Месяц поднялся уже до самого верха колокольни и теперь глядел сквозь стрельчатые проемы, четко освещая одинокий черный колокол, выделявшийся из всего, что они видели, суровой, мистически зловещей неподвижностью, передававшей ощущение его веса и тяжкого мерного звона, некогда срывавшегося с языка. Колокол был, конечно, чугунный, и на ободке его, верно, были отлиты строки какой-то древней грозной истины. Им захотелось подняться туда. В задней стене собора они нашли дверь, от которой вверх вела узкая лесенка, заскрипевшая, когда они ступили на нее... Она держалась обеими руками за его локоть и, спотыкаясь, тихо ахала, все так же ясно и живо блестя глазами. Наконец, пахнуло морозом, под ногами снова заскрипел снег, и они выбрались наверх.
Колокол — он оказался без языка и был сильно расколот — висел невысоко, но во мраке ничего нельзя было рассмотреть, поэтому они только покачали его руками, и в этот момент снизу, из собора, донесся какой-то звон, писк, гул, словно загудела муха, посаженная в коробку, — начал играть включенный через динамики магнитофон. Звуки его, проникая сквозь каменные своды, доносили сюда, в чистый холод и глубокую темноту, шум, блеск и душную тесноту забитого людьми помещения, и хотя он знал, что в зале почти никого нет, ему казалось, что там все продолжается какое-то нерадостное, вымученное веселье, идет бессмысленное механическое круговращение, унылая и угнетающая повторяемость которого ощущалась в равномерных толчках ритма, в каскадах грохота барабана, в резких, взвинченно-тонких звуках солирующей электрогитары.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: