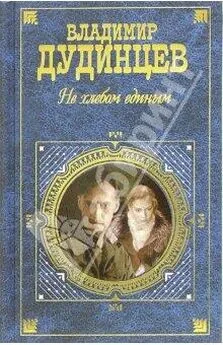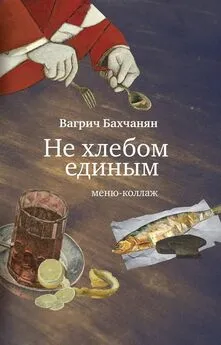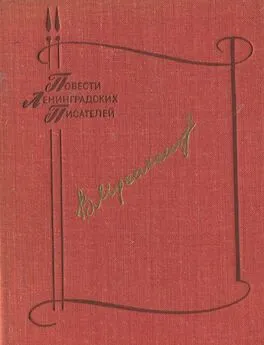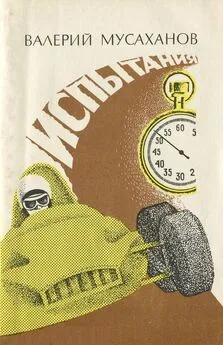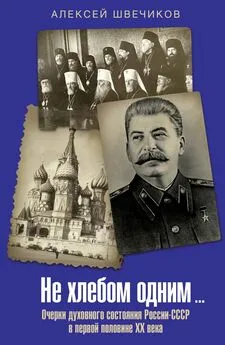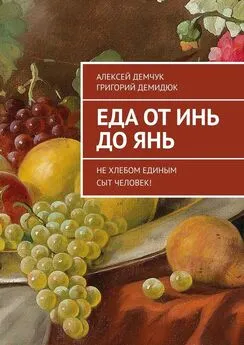Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний…
- Название:И хлебом испытаний…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00264-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний… краткое содержание
И хлебом испытаний… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так рухнула сказка моего детства.
После моего рождения мать бросила институт и не работала почти до самой войны, и только в сороковом году поступила не без помощи отца на курсы медсестер. И так всю жизнь и проработала в одной клинике, — благо в ночные дежурства на сестринском посту оставалось время для ее всегдашних мечтаний. С мягким, но несокрушимым упорством мать не хотела жить в настоящем. Домашнее хозяйство вела кое-как, стараясь побыстрее освободиться от докучливой стряпни и снова вернуться в свой мир.
Я давно уже привык к странностям матери, понял и простая их, но все равно с трудом подавлял в себе глухое — раздражение, когда видел это ее обмякшее отсутствующее лицо и взгляд, устремлявшийся в никуда.
Еще раз оглядев эту неизменную комнату, я потушил окурок в пепельнице и встал.
— Ну ;я пошел, мать.
Пальто было уже у меня в руках, когда она вышла из своей задумчивости и повернула ко мне обострившееся лицо, по голос бел, как всегда, неуверенный:
— Знаешь, что я хочу тебя попросить?..
— Что? — спросил я и улыбнулся ей, как ребенку, снисходительно и ободряюще.
— Зайди на Кирочную… — она печально и пристально печально мне в глаза.
— Зачем? — спросил я и сам услышал, как от злости осип голос.
— Ну, отец же… Он болен… Звонил вчера, спрашивал про тебя, — мать опасливым напряженным взглядом обвела комнату и снова печально и пристально посмотрела на меня.
— Что он спрашивал? Мяв я или нет? — резкими движениями я напялил пальто.
— Он старый человек… Отец… Он помнит, что у нас день рождения, — голос матери был нуден, как голос нищенки, просящей подаяние.
— Какая великолепная память. Ты бы сказала, что я тоже помню, — я с усмешкой взглянул на мать.
Ока потупилась и быстро исподлобья посмотрела на уродливую кленовую кровать, высокой спинкой упиравшуюся в правую стену комнаты. И тогда я понял, что она тоже ничего не забыла.
В комнате вдруг потемнело, углы скрыло пугающей мглой, и перед глазами поплыли черно-красные хлопья. Машинально поддернув полы пальто, я бессильно опустился на стул…
Моих дней рождения никогда не отмечали в семье зваными обедами или подношением подарков, даже в самом раннем детстве, и поэтому я запомнил только апрель сорок второго.
Мне тогда исполнилось девять лет, но я не понимал этого, вернее забыл, как и все остальное на свете, потому что провел зиму в полуобморочном состоянии и толком не знал, жив я или мертв. Уже не думалось о еде, не вспоминалось, как в первые дни зимы, о всяких яствах. Я просто лежал бессловесным комком в ямке продавленного матраса на старой кленовой кровати под ворохом завшивленного тряпья и чувствовал только тяжесть этого тряпья; сил хватало лишь на то, чтобы вдохнуть и выдохнуть холодный, но затхлый воздух. Я впадал в забытье и приходил в себя, а в комнате стояла все та же полутьма, и казалось, что между вздохами проходят годы.
Мать подходила ко мне редко; не открывая глаз, я заглатывал теплую талую снеговую воду, жевал, если чувствовал во рту, хлеб… Я до сих пор не могу забыть того состояния между жизнью и смертью. Это было ощущение животного, — сознание уже не действовало, оставались только простейшие инстинкты… Загодя предчувствовал я редкие подходы матери и чуть оживал, а потом снова погружался в спячку.
В тот день я, как обычно, ощутил беспокойство, какие-то проблески желаний, и это значило, что скоро край теплой кружки коснется иссохших губ, потом во рту появится хлеб и я буду медленно жевать, пока хлеб не превратится в солоноватую кашицу, пропитавшись кровью, сочащейся из цинготных десен.
Но ожидание все длилось, и беспокойство коченеющего полумертвого зверька, каким я был тогда, усиливалось. Зверек даже задышал чаще, открыл глаза и увидел солнце, окрасившее в желтое морозную роспись окна. После стольких дней темноты это было так странно и ярко, что зверек снова закрыл глаза и ему стало очень страшно. Он попробовал крикнуть, но ничего не получилось, только судорожно дернулась челюсть. Зверек ощутил, что он умирает, и в нем сразу воскрес человек. Человек понял, что нужно снова открыть глаза и что-нибудь увидеть и запомнить, потому что умирает он навсегда. Страха и неприятных ощущений не было… Я только знал, что это навсегда, и еще подумал, что матери останется моя хлебная карточка. Я открыл глаза и стал запоминать и запомнил навечно освещенные бледным солнцем ледяные хвощи и папоротники на оконном стекле, и услышал говор в комнате, и тоже запомнил навсегда. Монотонным, нудным голосом мать говорила:
— Он еще живой, утром стонал. Умрет, конечно… Но живого бросать нельзя… Нет. Был бы кусок сахару…
— Опомнись, Вера! Машина через час, собирайся, — это говорил отец. Низкий, богатый оттенками голос звучал с проникновенной проповеднической силой.
— Нет, не могу. Если есть у тебя что-нибудь, — мать сделала длинную паузу, а голос у нее был все тот же монотонный, негромкий и нищенский, — если есть… — повторила она. — Он же — твой сын.
— Ты погибнешь здесь! Я умолял этих людей взять тебя. У них только одно место в машине. Поезжай, прошу тебя… Я устрою его в больницу… завтра.
— Дай сахару, хоть кубик, пусть хоть последний раз… Дай. Он раньше любил сахар. Дай.
— Вера, опомнись, тут вопрос о жизни.
— У тебя же есть, ну, дай, дай. У него сегодня день — рождения, разве ты забыл? Твой сын. Дай ему кусочек сахару.
— У нас будут еще дети. Ты поезжай. Главное, чтобы ты выжила.
— Дай, дай маленький кусочек… Я давно не слышала, как он смеется. Может, улыбнется раз. Дай…
…Сладость того куска рафинада я тоже запомнил…
Я встал, глубоко вздохнул, обводя глазами большую захламленную комнату, оправил пальто и застегнул пуговицы.
— Зайди, пожалуйста, к нему, — снова попросила мать.
— Хорошо, — согласился я, уже не в силах возражать. Да и в самом деле, не мог же я не пойти к человеку, которому стольким обязан.
5
Я вышел в родную апрельскую сырость, в которой утопала моя улица. Шли прохожие — скромные люди средних лет в скромных пальто; в этом районе не было больших промтоварных магазинов и модерново-претенциозных кафе, блистающих унылой роскошью пластиков, притворившихся карельской березой и красным деревом, поэтому на моей улице не встречались распаренные от предприимчивости, всполошенно устремленные охотники за дефицитом и озабоченные удовольствиями посетители злачных мест. Улица была неброской и глуховатой, как быт старых ленинградцев из коммунальных квартир. Все это было привычным, зажитым до невосприимчивости, но сейчас я словно стал невидимкой — никто не ощущал моего присутствия здесь, на этом клочке пространства.
Где-то над торосами Гренландского моря апрельский арктический воздух сгущался в антициклоны и плыл через Норвегию на Ленинград, наполняя город знобкой сизоватой серостью; декретное время уже отметило конец рабочего дня и с несуетной озабоченностью подсчитывало тонны, кубометры и мегаватты. А я будто попал в будущее — не осталось никаких уз, люди и город не были связаны со мной общностью опыта, непрерывностью времени, — точно во сне, когда кричишь, машешь руками и зовешь на помощь, но никто не слышит твоих слов и не замечает жестов. Я был одиноким невидимкой, время которого текло вспять — к тому апрелю сорок второго года.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: