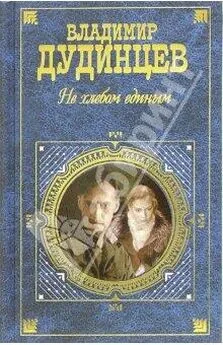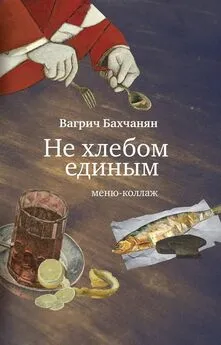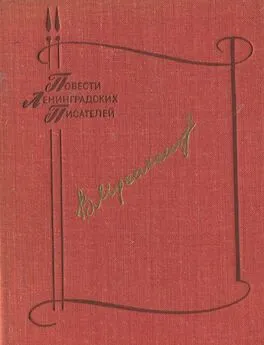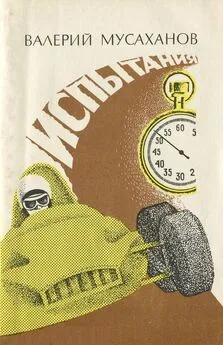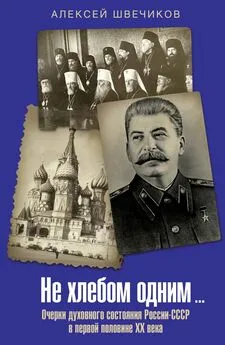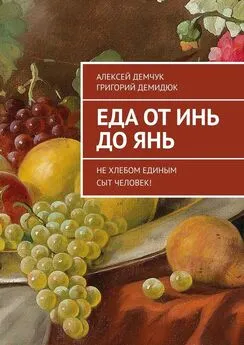Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний…
- Название:И хлебом испытаний…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00264-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний… краткое содержание
И хлебом испытаний… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На первых порах я даже почувствовал какой-то азарт — словно мы с учительницей вели тайную игру в шашки: кто кого быстрее запрет. Только позже понял я небезобидность этой игры, но сначала принял ее правила, внимательно и с небывалым интересом прочитывал учебник литературы и хрестоматию, чтобы всегда быть готовым к ответу на уроке. Надо сказать, что предмет Марии Николаевны был не самым подходящим для доказательства моей тупости. Дело в том, что я всегда любил читать книжки и не скучал даже над стихами. Вообще наша троица — Буська, Кирка и я — много читала. К чтению мы пристрастились еще в блокаду; чуть оклемавшись после зимнего голода, вылезали на солнце где-нибудь на пустыре и читали друг другу вслух.
На сегодняшний взгляд наши читательские вкусы покажутся странными — самый большой интерес вызывала у нас кулинарная книга «Французский повар», толстая, в коричневом сафьяне и с золотым обрезом, она даже своим видом как бы удостоверяла, что описанная в ней еда может существовать или хотя бы существовала когда-то на свете. Мы прочли «Французского повара» вслух много раз, и до сих пор в памяти иногда всплывают необъяснимо волнующие слова — «борделез», «потофе», «кассуле», смысл которых уже позабыт, но звучание вызывает ощущение праздничности и еще усмешливой грусти, с какой обычно думается о давнем детстве… Будучи голодным блокадным мальчишкой, я с замиранием сердца читал о немыслимых французских яствах, но, конечно, не мог предположить, что судьба заготовила мне отнюдь не поварскую карьеру. Да… но я прочитал не только кулинарную книгу.
В те военные годы книги в Ленинграде потеряли свою истинную ценность. Из разбитых бомбами и снарядами домов люди первым делом выносили одежду и матрасы, кастрюли и ложки, а книги так и оставались лежать лохматыми, шевелящимися под ветром кучами на междуэтажных перекрытиях расколотых домов, только зимой они представляли некоторый интерес как топливо для «буржуек», а летом книги становились добычей подростков. И своей начитанностью наша троица была обязана именно той блокадной поре. И вероятно, если бы наша тайная библиотека, хранившаяся в чердачном закуте над старыми каретниками, дожила до сих пор, она составила бы немалую ценность — там были редкие книги, много хорошо переплетенных годовых комплектов «Нивы», роскошные, богато иллюстрированные тома «Аполлона», марксовские издания русских классиков, Жюль Верн, Майн Рид, Марк Твен, Конан Дойл в красочном издании Сойкина, любимый Джек Лондон в мягких томиках приложения к «Ниве», и все это было не только прочитано, но и обсуждено в яростных спорах. Так что плоскую премудрость тогдашнего учебника литературы для восьмого класса я схватывал легко, и Марии Николаевне приходилось довольно туго, за весь год она только раз поставила мне «единицу», потому что я не выучил какой-то нудный отрывок наизусть. Но «тройки» она ставила мне совершенно безбожно, — даже ребята в классе стали замечать ее пристрастие ко мне.
Как-то ока гоняла меня почти целый урок, я прочел наизусть чуть ли не всего лермонтовского «Демона», пересказал взгляды Белинского на поэзию Лермонтова, говорил о духе бунтарства, приплел и Печорина, которым, как всякий пятнадцатилетний мальчишка, болел в то время Вообще я любил Лермонтова и говорил складно и увлеченно, даже класс необычно притих — не было всегдашних шорохов, шепотов и скрипов парт. Когда я умолк, Мария Николаевна сказала своим обычным ласковым голосом:
— Ответ неплохой, но для вас, Щербаков, я считаю его слабым. Три.
Тут класс взволнованно и недовольно загудел, кто-то негромко присвистнул, и Марин Николаевна, вдруг сорвавшись на визг, закричала:
— Безобразие! — и, опрокинув стул, выскочила из класса.
После этого она не вызывала меня, наверное, месяца два, но за сочинения исправно ставила тройки. Так и тянулся нелегкий для меня восьмой класс. Еще меня доводила придирками химичка — брившая подбородок, тощая, носатая, похожая на крысу в пенсне. Но и по химии с грехом пополам я умудрялся вылезать на тройки. Придиралась и немка.
Если в классе случалось что-нибудь скандальное — драка, общий побег с последнего урока, — то первым к директору дергали меня, хотя я понимал, что мне не пройдет многое из того, что сходит другим, и был довольно осторожен, а кроме того, в классе с молчаливого согласия ребят и, наверное, не без стараний Буськи и Кирки установилось правило: что бы ни случилось, не упоминать мою фамилию.
Я ощущал молчаливое сочувствие исторички Веры Петровны, молодой звонкоголосой женщины с прозрачными зелеными глазами. Открыто поддерживал меня математик Яков Иваныч. Благодаря его доброте я чувствовал себя все-таки не совсем зафлаженным облавой волком. Как-то зимой Яков Иваныч на перемене, проходя мимо меня в коридоре, приостановился и скороговоркой сказал:
— Щербаков, подучи теорему Пифагора, завтра вызову, обязательно. Понял? — и, не дожидаясь ответа, прихрамывая, пошел в сторону учительской.
Я был удивлен этим необычным предупреждением математика и вообще не ждал ничего хорошего от всяких предупреждений учителей, но тем не менее вечером честно выучил два доказательства теоремы, просмотрел несколько основанных на ней задач. И только назавтра понял смысл сказанного Яковом Иванычем.
Математика была в тот день на двух последних уроках, и вместе с Яковом Иванычем в класс вошел директор Грищенко.
Класс с грохотом встал, с таким же грохотом сел. Учитель и директор с минуту стояли рядом на фоне потертой белесоватой классной доски и всматривались и лица. Они оба носили военную форму, только директор Грищенко был в хорошей и новой, видимо сшитой на заказ суконной гимнастерке с большими накладными карманами на груди и подпоясан еще довоенным ремнем с чеканной звездою на латунной пряжке. Директор, что называется, смотрелся — худощавый, с белыми волосами альбиноса, зачесанными назад, с белым длинным и гладким лицом, на котором слегка выделялись голубоватые льдистые глаза; чем-то Грищенко напоминал знакомого по портретам писателя Александра Фадеева.
Математик Яков Иваныч казался полной противоположностью. Он был в потертом армейском кителе с не-споротыми хомутиками для погон; над левым грудным карманом даже издали виднелись маленькие дырочки и пятна более свежей, невыцветшей под орденами материи. Орденов Яков Иваныч почему-то не носил, и в облике его не было ничего воинственного. Из-за раненой ноги стоял математик как-то избочась, темные глаза смотрели угрюмо, грубоватое лицо казалось сиреневым. Все это особенно бросалось в глаза рядом с директорской свежестью и белизной.
И хотя сейчас я записываю не тогдашнее впечатление, а сегодняшнее воспоминание, но надеюсь, что все же есть какая-то связь между этими разновременными процессами, и она, эта связь, протянувшаяся через столько лет, и является истиной. А впрочем, что такое истина — дохлая лягушка, бросовый окурок, четвертушка бумаги, исписанная измененным кривым почерком и без подписи, завалявшаяся в архивной папке? Я не ищу истины — я тоскую по правде и опасаюсь, что горожу ложь на ложь. Но разве так уж важно, как выглядели двадцать пять лет назад люди, прямо или косвенно определившие мою судьбу, — правда в том, что, увидев их рядом на фоне вытертой и белесой классной доски, я понял смысл вчерашнего предупреждения математика. И правда в том, что я не почувствовал благодарности к Якову Иванычу, а испытал лишь задорное торжество, потому что выучил теорему Пифагора и директору Грищенко не удастся подловить меня. Чувство благодарности тогда было почти незнакомо мне, вероятно, потому, что испытанные несправедливости еще не превысили некой критической массы, — я еще слишком хорошо думал о людях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: