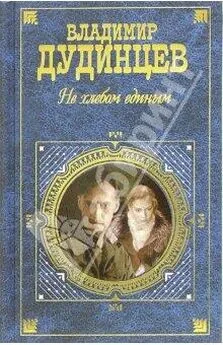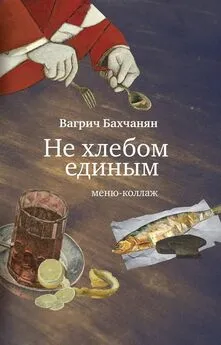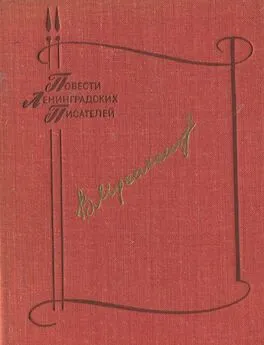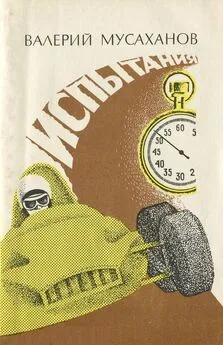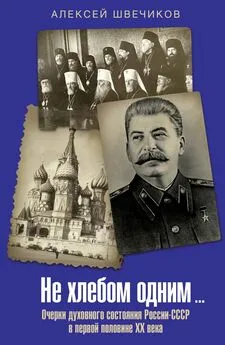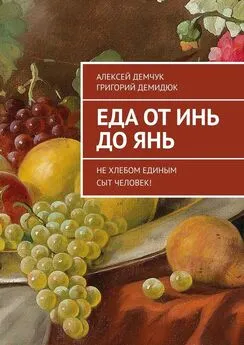Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний…
- Название:И хлебом испытаний…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00264-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Мусаханов - И хлебом испытаний… краткое содержание
И хлебом испытаний… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ах, если бы я мог ответить тогда директору Грищенко! Если бы я мог немедленно и непосредственно выплеснуть свое чувство — пусть даже в недостойной и оскорбительной для этого бело-гладкого и подтянутого человека форме, — может быть, в душе моей не осталось бы затаенной злобы и мучительного желания отомстить за несправедливость. Но я еще не умел воевать с миром взрослых и молчал, стоя возле материнского стула и оглядывая исподлобья маленький директорский кабинет. Туповатая покорность матери, видимо, передалась мне, сковала все существо ощущением усталого безразличия, — и еще униженная надежда на сострадание, на то, что справедливость можно выклянчить, как окурок у прохожего на улице, шевельнулась во мне. В тот миг я позабыл, что воюю с миром, в тот миг я не мог отождествить слюнявого, мочащегося в штаны Губана с одетым в дорогую гимнастерку и гладко причесанным директором Грищенко. Губан ударил меня своей неказистой самодельной финочкой, директор вычеркнул меня из той жизни, которой я жил и хотел жить. Они были равны, но я не мог осмыслить этого равенства тогда, не мог понять, что директор Грищенко заслуживает такого же отпора, как и Губан; не мог понять, что для того, чтобы сохранить душевное здоровье и не сломаться, я должен дать директору немедленный и жесткий отпор. Откуда мне было знать тогда, что я позабуду даже само имя Губана и при случае вспомню о нем без ненависти; откуда мне было знать, что никогда не забудется тот гладколицый альбинос? Я не мог позабыть все эти годы той своей униженной надежды на то, что сострадание и справедливость можно выклянчить, как окурок.
Усталый, сорокалетний, страдавший и поэтому склонный к состраданию, я и сейчас не поручился бы за себя, если бы встретил директора Грищенко. Да, я не поручился бы за себя, а уж за директора Грищенко не советовал бы ручаться никому. А тогда я сделал лишь то, что пришло в распаленную обидой, дремучую, почти первобытную душу.
Поздним вечером, вынув стекло в окне первого этажа, я проник в пустую темную школу, ударил плечом в дверь директорского кабинета, державшуюся на дохлом французском замке, и стал крушить все, что там было.
Косой призренный свет фонарей заглядывал в широкое окно кабинета и отражался в стекле, покрывавшей столешницу. Стекло рассыпалось с шершавым хрустом, когда я хватил об него тяжелой мраморной чернильницей, и косой отраженный свет залила фиолетовая огромная клякса, и откуда-то от пола вверх и в стороны вздыбилась первобытная серая мгла. Я не думал ни о чем, не испытывал опасения, что живущий ниже завхоз услышит этот грохот разгрома, — я весь был в оглушительном возбуждении варварского тяжелого хмеля разрушения, задыхающийся, оскаленный, готовый разорвать темноту яростным, свирепым, тоскливым ревом. От удара изломанным стулом вылетела дверца сбитого жестью шкафчика, стоявшего в углу, и на меня зловеще глянули стоящие рядком малокалиберные винтовки, с которыми проводил занятия военрук. Дрожащими руками я вытащил одну малокалиберку и в сладком охлаждающем ужасе ощутил в мокрых ладонях особую какую-то, отдающую в сердце тяжесть оружия и услышал чудовищную, противоестественную тишину пустой школы, и почти сразу же эту тишину разорвали тяжелые торопливые шаги. Какой-то неведомый пробудившийся инстинкт толкнул меня, и звериным неслышным движением я скользнул к стене и встал за приоткрытой дверью кабинета, в растерянности прижав винтовку к груди, почти теряя сознание от страха и внезапно подступившего удушья. Свет, вспыхнувший в круглом плафоне, ослепил. И только через миг из огненного мрака выплыл старшина-завхоз, стоящий посередине небольшого кабинета в одних черных трусах и блескучих яловых сапогах, подчеркивавших кривизну ног. Он стоял и ошалело смотрел на меня испуганными глазами. Не помня себя, я, сделав шаг вперед, попятился к двери, задом вышел в коридор и рванул вниз по лестнице к окну с вынутым стеклом. И только на пустой ночной улице я почувствовал тяжесть винтовки. А на чердаке каретника пришло ощущение чего-то непоправимого. Скорчившись на жесткой дощатой скамейке под треугольным слуховым окном, я смотрел в темноту; смутно белели стропила и балки. Я не думал, даже не пытался представить себе завтрашние события, — не было ничего, кроме тупого ощущения безразличия, непоправимости и отчаяния, а, пахнущая мышами и пылью, длилась и длилась холодная чердачная ночь. И только на рассвете надвинулось короткое тяжелое забытье, после которого остался давящий беспредметный ужас в душе.
Я запрятал винтовку в дальнем углу, слез с чердака, обошел флигель и, дрожа от холода, спрятался на темной черной лестнице, в приоткрытую дверь наблюдая за Инкиной парадной. Я не знал, который час, — время перестало существовать, — но чувствовал, что Инка еще не ушла в школу.
Зачем ждал я ее в то жуткое утро? Почему не пошел за сочувствием к старым испытанным друзьям Буське и Кирке?
Почти ничего не соединяло меня с хорошо одетой дочкой лысоватого полковника, за которым приезжала по утрам зеленая «Победа». Послевоенная жизнь из года в год отдаляла нас друг от друга, и я уже почти не связывал в памяти ту тощую, тревожно-некрасивую девчонку с безумными неподвижными глазами, блокадным летом давшую мне хлеб, с теперешней Инкой — первой красавицей параллельной женской школы, носившей туфли на высоких каблуках и крепдешиновые платья, окруженной на школьных вечерах непробиваемой толпой разодетых, благополучных десятиклассников. Мы здоровались при встречах, перекидывались ни к чему не обязывающими словами и расходились. Она казалась такой далекой, что ее лицо, в тот год по-настоящему засверкавшее острой, утренней и немного надменной красотой, даже не вызывало во мне восхищения. Я только умом и глазами понимал, что Инка редкостно красива, но сердце, уже ожесточившееся и загрубевшее в обидах, не откликалось волнением. Может быть, это была инстинктивная защита невежественной и уже ущербной души, неспособной к бескорыстному наслаждению прекрасным, неспособной понять красоту без притязаний на обладание? Не знаю. Я сторонился Инки в последний год. Но вот ощущение гибельной непоправимости, вторгшейся в судьбу, побудило меня прийти не к друзьям, а к ней. И, спрятавшись на черной лестнице, я следил за ее парадной.
Солнце уже заглянуло во явор» окрасив желтизной сероватый утренний воздух, стали слышнее; машины, проезжавшие по улице; из парадных выходили люди, их торопливые утренние шаги будили звонкую пустоту двора. Приехала зеленая «Победа» и увезла высокого лысоватого полковника, Инкиного отца, а я все стоял на темной черной лестнице и смотрел в приоткрытую дверь с тупым терпением животного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: