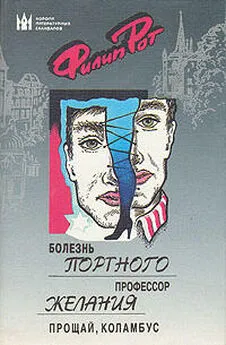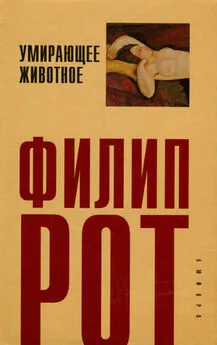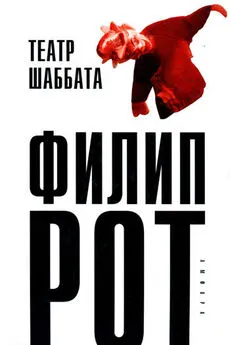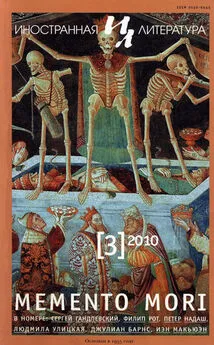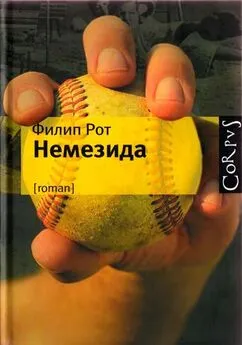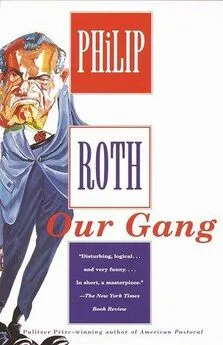Филип Рот - Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла
- Название:Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники
- Год:2019
- Город:М.:
- ISBN:978-5-906999-21-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филип Рот - Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла краткое содержание
«Пражская оргия» — яркий финальный аккорд литературного сериала. Попав в социалистическую Прагу, Цукерман, этот баловень литературной славы, осознает, что творчество в тоталитарном обществе — занятие опасное, чреватое непредсказуемыми последствиями.
Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но снова улегшись в кровать, он подумал: тяжко не то, что все должно быть в книге, а то, что все может быть в книге. И не считается жизнью, пока туда не попало.
А потом началась эйфория от выздоровления — и от того, что ослабили резинки. В недели, последовавшие за успешной операцией, в возбуждении от того, что каждый день поддержка наркотиками понемногу сокращается, в восторге от того, что второй раз за сорок лет учится произносить односложные слова, используя губы, нёбо, язык, зубы, он бродил по больнице в халате и шлепанцах и в новой седой бороде. Ничто из того, что он слабым голосом произносил, не казалось обветшалым — слова выглядели восхитительно ясными, катастрофа молчания осталась позади. Он пытался забыть все, что случилось в лимузине, на кладбище, в самолете, пытался забыть все, что случилось после того, как он впервые приехал сюда поступать в университет. Мне было шестнадцать, я напевал в метро: «…шанти, шанти, шанти» [57] Мир, покой ( санскр.). О шанти поется в шанти-мантрах, или «мантрах мира».
.
Больше ничего не помню.
Интерны первого года, молодые люди лет по двадцать пять, с только что отрощенными усами и темными кругами под глазами — от работы дни и ночи напролет, — приходили после ужина к нему в палату познакомиться и поболтать. Его поражала в них детская безыскусность и невинность. Как будто, выйдя с платформы с дипломами медицинской школы, они свернули не туда и снова оказались во втором классе. Они приносили ему экземпляры «Карновского», чтобы он их подписал, и с долженствующей серьезностью спрашивали, работает ли он над новой книгой. Цукерман хотел выяснить только одно: сколько лет самому старшему ученику на их курсе.
Он начал помогать послеоперационным пациентам вставать с кровати, медленно ходить по коридору, катя за собой штативы с капельницами.
— Двенадцать раз туда и обратно… — простонал приунывший мужчина лет шестидесяти со свежезабинтованной головой, ниже шеи, там, где разошлись завязки ночной рубашки, у него виднелись темные родинки, — двенадцать раз по коридору, — сказал он Цукерману, — это примерно полтора километра.
— Ну, — сказал Цукерман, с трудом шевеля челюстью, — сегодня километр вам проходить необязательно.
— У меня рыбный ресторан. Вы любите рыбу?
— Обожаю.
— Непременно приходите, когда поправитесь. «Док Ала». «Наши омары — чуть ли не даром». Ужин за счет заведения. Все только свежее. Я понял одну вещь. Нельзя подавать мороженую рыбу. Есть люди, которые сразу это замечают, и их не провести. Надо подавать свежую рыбу. Единственное, что у нас замороженное, это креветки. А вы чем занимаетесь?
Господи, неужели мне опять исполнять свою репризу? Нет, в их ослабленном состоянии это опасно для обоих. Его маска — совсем не шутка; он все это время наслаждался, в его неуемном представлении все призраки, вся затаенная злоба становились еще безжалостнее. То, что выглядело как новое наваждение, которое должно было изгнать старые наваждения, оказывалось старыми наваждениями, весело увлекавшими его настолько далеко, как только он мог зайти. Насколько далеко? Не стоит делать ставки. Неурядиц там, откуда это шло, было еще предостаточно.
— Я сейчас не работаю, — сказал Цукерман.
— Это вы, такой умный молодой человек?
Цукерман пожал плечами:
— Взял на время паузу, вот и все.
— Вам бы заняться рыбным бизнесом.
— Может быть, — сказал Цукерман.
— Вы молоды… — На этих словах ресторатор сглотнул слезы, пытаясь унять вдруг накатившую жалось выздоравливающего ко всему, что так уязвимо, в том числе к себе нынешнему и к своей забинтованной голове. — Не могу даже сказать, на что это было похоже, — сказал он. — Я чуть не умер. Вам не понять. Как после этого тянет жить. Вот выкарабкиваешься, — сказал он, — и видишь все заново, все.
Шесть дней спустя у него открылось кровотечение, и он умер.
Рыдала женщина, и Цукерман застыл у ее палаты. Не мог решить, что делать, и вообще, стоит ли что-то делать — Что случилось? Что ей нужно? — но тут вдруг возникла медсестра, прошмыгнула мимо него, бормоча себе под нос: «Некоторые думают, я прихожу их мучить». Цукерман заглянул внутрь. Увидел седые волосы, разметавшиеся по подушке, «Давида Копперфильда» в бумажной обложке на простыне, прикрывавшей ее грудь. Она была примерно его возраста, в собственной голубой ночной рубашке, тонкие бретельки которой выглядели — не к месту — очень соблазнительно. Она как будто прилегла отдохнуть летним вечером, перед тем как помчаться на ужин.
— Могу я чем-нибудь…
— Этого не может быть! — заорала она.
Он вошел в палату.
— В чем дело? — прошептал он.
— Мне удалят гортань! — выкрикнула она. — Уходите!
Он заходил в холл в дальнем конце отделения уха, горла, носа проведать родственников пациентов, ожидавших результатов операций. Сидел и ждал вместе с ними. За карточным столиком кто-нибудь всегда раскладывал пасьянс. Причин для волнения хватало, однако никто не забывал как следует перетасовать колоду перед тем, как разложить новый пасьянс. Как-то днем Уолш, врач приемного отделения, нашел его в этом холле: Цукерман сидел с блокнотом на коленях, но сумел написать только «Дорогая Дженни!». Дорогая Дайана, дорогая Яга, дорогая Глория. Главным образом он сидел и вычеркивал слова — они были совершенно не те: нервы расшатаны… презираю сам себя… устал лечиться… мания болезни… царство ошибок… раним беспредельно… погружен до того, что исключаю все прочее… Все получалось искусственным — манерный, высокопарный стиль, подделывающийся под искренность и если что и выражавший, так только его сомнения относительно того, можно ли хоть что-то выразить словами. Он не мог блистать умом, рассуждая о том, что, лежа на спине, оказался как мужчина не на высоте, не мог ни извиняться, ни стыдиться этого. Убеждать силой чувств он уже не мог. Однако, как только он садился писать, появлялось новое объяснение, и его корежило от собственных слов. То же самое с книгами: как хитроумно и замысловато ни маскируешься, сколько ни отвечаешь на обвинения, сколько ни парируешь нападки, яростно обостряя конфликт, на самом деле истово хочешь быть понятым. Что за проклятие — вечно давать показания! Лучшая причина никогда больше не писать.
Когда они спускались в лифте, Уолш докуривал сигарету — наслаждаясь, подумал Цукерман, и наслаждаясь некоторым презрением ко мне.
— Так кто вам вправил челюсть? — спросил Уолш.
Цукерман назвал фамилию врача.
— Все самое лучшее, — сказал Уолш. — Знаете, как он достиг таких вершин к благородным сединам? Много лет назад учился во Франции у одного светилы. Ставил опыты на обезьянах. Он все это описал. Лупцевал их по морде бейсбольной битой, а потом изучал трещины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: