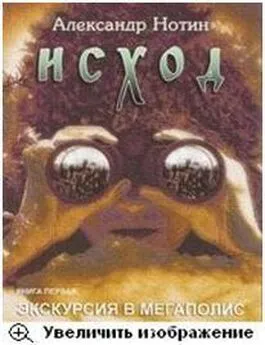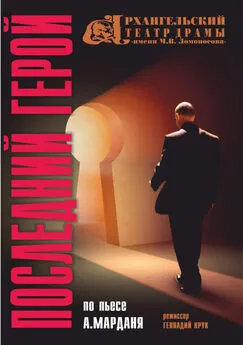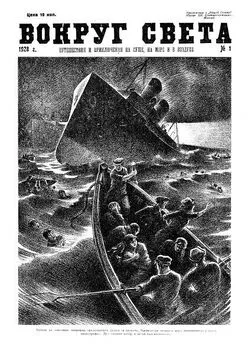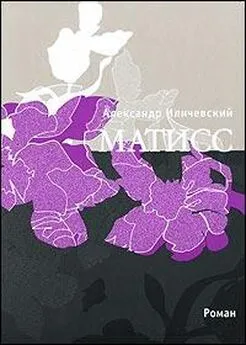Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]
- Название:Бабушка [журнальный вариант]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант] краткое содержание
Текст журнала «Москва» 2017
Бабушка [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Нелюди партейные!» — вырывалось у бабушки, когда она вспоминала тот случай.
Я не мог взять в толк, при чем тут какие-то «партейные» или нелюди, ведь папа говорил, что голод был из-за того, что на нас напали немцы. Да и, в общем, никакого особого не было голода-то, всем выдавали хлеб за работу. Так папа говорил. Его на войне вообще пельменями кормили в офицерской столовой на аэродроме…
Мы с другими мальчишками любили петь-распевать невесть откуда взявшуюся песенку про войну и сухари:
— Мы едем, едем, едем, сухарики грызем, границу переедем, всех немцев перебьем. Немецкую царицу посадим в рукавицу, немецкого царя — сгрызем, как сухаря!
А бабушка рассказывала страшные истории. Про то, как одна солдатка в лютый мороз пошла с грудным младенцем к сельским «куркулям» картошки себе выменять, напали на них волки, и она легла в снег, грудью на ребеночка. Ее загрызли насмерть, а малютка вроде бы жив остался: подоспели другие городские ходоки…
Бабушка обычно ходила по деревням «артельно», с женщинами да стариками. Рассказывала, как, «бывалоча», на обратном пути, когда уже с картошкой шли, их «старшой» — хромоногий старик — вдруг ускорял свой скачущий бег, и все разом умолкали, гнали и гнали саночки, скорей-скорей, только бы миновать эту страшную рощицу в низине…
Бабушка спрашивала женщин, почему это они бежали-бежали, а потом, как наверх поднялись — сбавили ход, перевели дух, — волки там, что ли, в рощице овражной, выходят на дорогу?
— Дуреха, не волки там выходят, там хуже волков… Там мужики выходят, — объясняли ей солдатки.
Оказывается, в роще той, что в лощине, подкарауливали женщин разбойные мужики с топорами и вилами, убивали всех, без разбора. За эту самую картошку помороженную.
— Я уж потом эти места опасные у людей вызнала, и если одна ходила, то всё бегом, всё бегом, — вспоминала бабушка. — Бог миловал, а некоторых убили так-то.
Помню бабушкин рассказ про то, как женщина пошла ночью в деревню менять одежду на картошку, была зима лютая. Шла она через лес, по дороге, и вдруг видит…
— И видит она, Санёга, как выходит из лесу на дорогу большая собака со светящимися желтыми глазами и смотрит, смотрит этак пристально на солдатку эту. Она вся обмерла от страха: что за собака такая большущая? А может, не собака, а волк? А собака ей мордой кивает — иди, мол, за мной, не бойся. Так и проводила ее собака до деревни, а когда она уже картошку на санки взвалила, то собака ее дождалась и до города довела, а потом — шнырь, в лес ушла. И наутро получила та женщина похоронку с фронта: мол, так и так, погиб ваш муж смертью храбрых…
Бабушка помолчала загадочно.
— Понял, Санёга, что это за собака была?
Я понял, конечно, и от этого понимания захолодел весь, затосковал и не признавался, что понял, мотал головой — нет, мол, невдомек мне, что это за собака такая женщине в лесу повстречалась.
— Это муж ее убитый был, вот что за собака! — утробно провозгласила бабушка. — И добавила: — В войну много чего было, Сашуля, расскажи — не поверят.
Она вспоминала, как однажды ночью на свой страх и риск пошла в одиночку с санками и узелком одежды в деревню, к куркулям, менять платья да кофточки на картошку, как шла через заводские пути, а где-то неподалеку, на задворках, слышались выстрелы — энкавэдэшники расстреливали бабсолдаток, которые попались с картошкой, их тут же «партейные» убивали «за спекуляцию продовольствием», а деревенских почему-то не трогали, хотя там, в деревнях, было полно тех, кто прятался от призыва на фронт…
И вот бабушка шла через рельсы, и нога ее в валенном сапоге попала в стык между рельсами, а тут стрелку переводить стали, и ногу зажало, как в капкане… Бабушка видит: паровоз идет, ее слепит, свистит что есть мочи, а ее ужас всю сковал, она ногу выдернуть не может, а надо было просто из валенка вынуть ступню, и всё, но такое даже в голову прийти не могло — взять и бросить валенок…
— Ну, думаю, смерть моя пришла, давай, Ольга, Богу молиться напоследок, — вздыхает бабушка. — Уж вот он, паровоз, а тут меня сила какая-то отшвырнула в сторону, и нога в чулке из валенка выдернулась. Мужик надо мной стоит, грит: «Ты жива, баба? Дойдешь до дому? Валенок твой раздавило, босой ты осталась, дуреха». И пошел себе прочь. Я кричу ему: «Как звать тебя, милый человек? Молиться кому?» А он обернулся и грит: «Николай». Знаешь, кто это был, Санёга?
Я озаряюсь догадкой:
— Это папа твой был, наверно, Николай Макарыч! Он пришел с неба и спас тебя, да, бабушка?
Бабушка всплескивает руками:
— Николай Угодник это был, Саша! Вот кто это был! Вот кому надо молиться, и спасет. Хоть от голода, хоть от паровоза, хоть от энкавэдэ.
Бабушка ругала и костерила «энкавэдэ» очень редко, обычно она хвалила советскую власть, которая платит ей пенсию, хоть и крошечную, но зато работать не надо, не то что у капиталистов, там пенсии нет совсем и старики нищенствуют, а у нас старикам место уступают. Это свое всегдашнее выражение — «старикам место уступают» — бабушка повторяла безотносительно к себе самой, а так, вообще. Она никогда не ездила в городских автобусах, всегда ходила только пешком, потому что в то время у пенсионеров еще не было бесплатного проезда, а «прокатать» просто так целых пять копеек — а если в два-то конца, то это уже десять, кило картошки! — было для бабушки непозволительной роскошью, расточительством, хамством и делом безбожным.
Она никогда не была «активисткой», но на Октябрьску , осенью 69-го, водила меня на демонстрацию. Уж не помню, где были тогда папа, мама и Катя — где-то праздновали, поди, может, даже в Москве, у папиных фронтовых друзей или бывших университетских общежитских приятелей, у того же Марка Розовского, с которым оба были дружны.
Помню, что в демонстрации той шел весь Егорьевск, потому что надо же куда-то идти, не все же дома сиднем сидеть, а тут — все-все знакомые с тобой здороваются. Да ведь и положено идти на демонстрацию, как не пойти, когда все идут, из году в год? Положено так, а уж коли «не нами положено, то не нам и отменять».
С годами я стал относиться к такому усердию людскому с пониманием: все-таки развлечение какое-никакое в эту осеннюю хмарь, когда тоска заползает холодной змеею в жилище… Выпивать сподручней, спровористей, потому как не так стыдно, нет всегдашней хоть маломальской, да самоукоризны. Да и пьяным быть в этот мозглый день — всем и любому простительно, а может — кто-то встретится из знакомых и еще сообразим. И шли люди в серых и черных одеждах, с красными тряпочками на груди, продрогшие от мокрого снега и прихлебывающие из горла «для сугрева».
А вот первомайская демонстрация следующего, 1970 года была все-таки повеселей, понарядней смотрелись люди. И я тогда сидел на закорках у папы, и мне было жутко и захватывающе, неуютно и совестно, я переживал, что папе, наверное, тяжело, и он держит меня просто для того, чтобы чинчинарем выглядеть в глазах проходящей мимо толпы, в которой многие кричали маме свои поздравления, а мама к тому же и фотографировала папу со мною на закорках… Однако ж несмотря на все эти переживания, спускаться на землю мне вовсе не хотелось, я все глядел и глядел поверх плывущих мимо голов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/1094470/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant.webp)