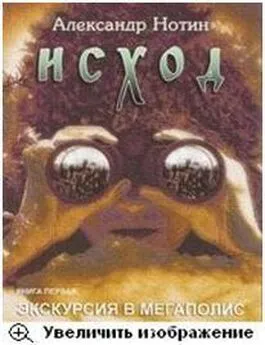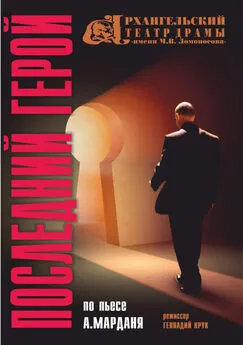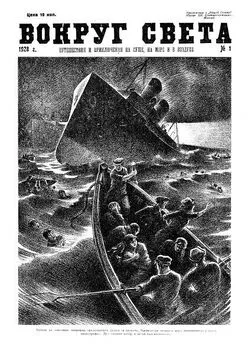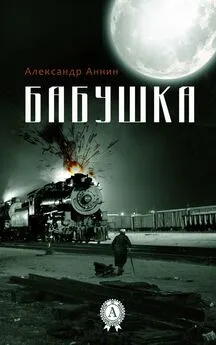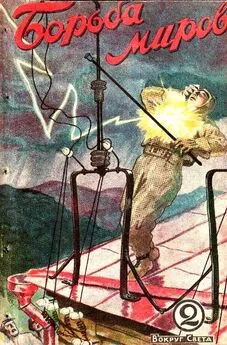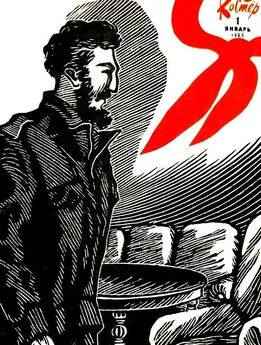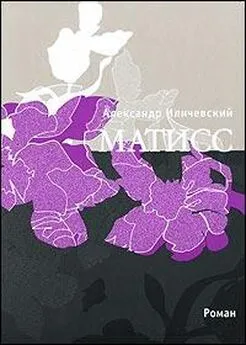Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]
- Название:Бабушка [журнальный вариант]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант] краткое содержание
Текст журнала «Москва» 2017
Бабушка [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А пока мой папа подхватывает стихи Олимпиады Васильевны:
— Искусству нужен так Покрасс [5] Дмитрий и Даниил Покрасс — братья-композиторы, авторы марша «Красная армия всех сильней!».
, как леопарду — унитаз!
И хмельно поправляет нашу гостью:
— Не так про Ардова, не так… Искусству нужен Виктор Ардов [6] Знаменитый советский писатель, сценарист сталинских фильмов «Светлый путь» и «Счастливый рейс» («Машина 2212»). Умер в 1976 году.
, как унитаз для леопардов!
Мне было все равно, что говорят взрослые про Ардова или Покрасса. Я только смутно понимал, что Ардов и Покрасс — люди большие и заслуженные, раз уж про них читают злые стишки в нашем Егорьевске. Они «вращаются» совсем в других компаниях, среди других людей, и люди эти никогда не будут сидеть за нашим столом. А если Ардов или Покрасс все-таки придут сейчас к нам в гости, то перед ними, по выражению бабушки, все сразу же будут лебездить .
Именно поэтому и читают сейчас папа, мама и гости такие вот стишки. Это понятно и, в общем, скушно .
Но… Как же так? Ведь совсем недавно, еще вчера, мама и папа смеялись над этой теткой, Олимпиадой Васильевной, когда ее здесь не было, хаяли ее длинный мундштук с дымящей сигаретой и еще что-то. А теперь, когда она здесь, за столом, хвалят ее за умение «себя подать» и даже за ее смелость открыто курить в присутствии партийного начальства! И вместе с ней ругают это самое начальство. Значит, мама и папа все время говорят неправду. Почему я должен их слушаться?
Но я знал, что буду слушаться. Я не то чтобы смирился, просто я не мог представить, что жизнь бывает другой. И я спокойно, скушно принимал как очередное наказание, что мне всю жизнь придется слушаться тех, кто врет. Кто, по выражению бабушки, лебездит перед гостями, а потом, когда они уйдут, их высмеивает и страмит (суммарное, как я теперь понимаю, слово из «стыдит» и «срамит»).
Такие-то вот люди и будут всегда моими начальниками, они всю жизнь будут главнее меня. Именно потому, что врут, как папа и мама, а папа и мама — мои самые главные начальники.
И я, сопя сосредоточенно, бездумно и безо всякого смысла долбил по кругляшкам старой — даже по тем временам! — печатной машинки «Москва»: «Миллионы центнеров с гектара». Такая фраза склеилась в моем мозгу на потеху взрослым. Слова были извлечены мной из обрывков «последних известий», слышанных мною по радио. Наверное, «миллионы» и «центнеры с гектара» были из разных сообщений диктора, потому что, как я узнал позже, столько хлеба собрать нельзя даже при самой заоблачной советской урожайности. Просто я печатал очень медленно и не успевал «стенографировать» все подряд…
И еще в то холодное, мокрое лето все повторяли вслед за радио: спасти урожай, гибнет зерно.
— Почему опять — последние известия? — спрашивал я. — Ведь были уже последние. Надоело. Зачем они обманывают, что больше не будут говорить известия, что это в последний раз?
Меня не понимали, а бабушка знай ворчала, кивая в сторону черного, округлого, зашторенного желтой сеточкой радио:
— Все лезут и лезут к нам, все лезут и лезут эти американцы проклятые. чего им от нас надо?
«Сколько-то там центнеров с гектара», «перевыполнение плана по надоям»… Я знал, я чувствовал вранье. Вокруг только и разговоров было что о мясе, все мечтали купить его и съесть во щах, или с картошкой, или с макаронами. Это было привычной, необременительной заботой егорьевцев — ну, кроме законченных алкашей, разумеется. Этим-то было все равно, что есть, им было плевать, что говорят по радио. Они не переживали из-за того, что к нам лезут американцы.
В очередях, чуть пройдет слушок, что кончается какая-нибудь еда, людей в остервенении затаптывали насмерть — я помню эти «нормальные», вовсе не жуткие, а такие привычные для моего детского слуха разговоры у бассейны. «Слыхала? Крахмал выбросили на бугорке, так старуху какую-то насмерть задавили». — «Слыхала. Сколько лет-то ей было? Совсем старая аль как?»
И так деловито, без какого-то, упаси боже, осуждения, возмущения или ужаса об этом говорилось!
— А что такое крахмал, бабушка? — спрашивал я.
— Это чтобы кисель сварить, Санёга, — отвечала бабушка.
Она считала вполне нормальным, что человека убили из-за киселя. Я с тех пор невзлюбил кисель, даже самый вкусный, черничный, и стал гораздо лучше относиться к компоту. Я давился киселем, когда меня заставляли его пить, потому что старуху «задавили насмерть». Вот и я давился. Я представлял, как все разошлись из магазина, когда крахмал кончился, а она осталась лежать там серым тряпичным бугорком, в этом магазине по прозвищу «Бугорок», что в самом конце нашей улицы.
А все, между прочим, были сыты, никто не голодал. Бурчали, конечно, что мяса нет, что колбаса Егорьевского мясокомбината похожа по вкусу на мокрую, изжеванную газету… И еще ведь постой за ней, за колбасой этой, которая почему-то всегда, с первого дня поступления в магазин, уже была заветренной.
А привыкли все к этому до такой степени, что, казалось бы — ну что тут такого уж сложного, сесть в электричку и съездить в Москву за мясом, колбасой и всем прочим, чего душа просит? Ну что такого — три часа туда, до Казанского, а до Ждановской — два с половиной. Три часа — обратно. Да в очереди три часа, да магазин найти, где мясо есть в продаже… Всего-то делов — десять часов. Ладно, одиннадцать-двенадцать, накинем для верности. Нужно же и выпить еще с устатку, с чистым сердцем, где-нибудь в заплеванном московском скверике, под котелку-другую свежекупленной колбасы. В общем, день отдай — не греши.
Зато холодильник твой — полнехонек, под завязку (если он есть, конечно, холодильник-то, у большинства в нашем квартале не было тогда холодильников, держали в подполе продукты и за три-четыре дня съедали артельно , по словам моей бабушки: всем скопом семейным наваливались, чтоб не пропало чего-нито, не стухло).
Но как поедешь туда, в московские продуктовые магазины? Как? Это ж сначала посчитать все надо. И при дотошном подсчете выходит, что десять часов изнуряющей давки в электричке, топтания в магазине с гудящими витринами и стойким букетом рыбьих да курьих запахов — это пустячок, это так себе, мелочь, ничего не стоящая. Потому что гораздо увесистей другие цифры, вот они-то имеют значение первостатейное.
Туда-сюда до Казанского — это и есть та самая трешница неразменная, заветная, что лежит на черный день. Трешница вечнозеленая, расейская, с кремлевскими соборами, трешница — заступница в болезнях и в печалях, в невзгодах и напастях житейских. Она, вездесущая трешница эта, единым для всех аршином мерит семейный достаток, дает уверенность в завтрашнем дне. Есть трешница — значит, есть простор для мечтаний, задел для накоплений. А нет ее, всеблагой трешницы, — и ты, случись чего, беспомощен перед лицом беды. Ничего, правда, обычно не случается, но все-таки — неприятно, неуютно как-то без трешницы, словно висишь голой задницей над темной, холодной пропастью, а снизу еще и ветерок поддувает, когда нет ее в кошельке, насущной, непобедимой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/1094470/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant.webp)