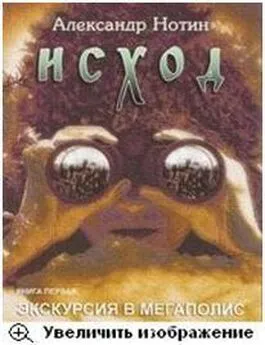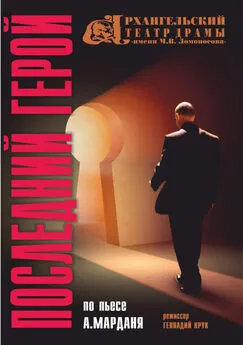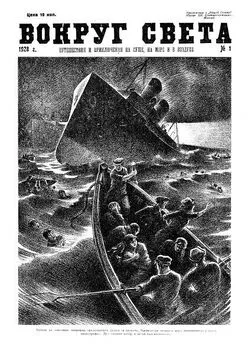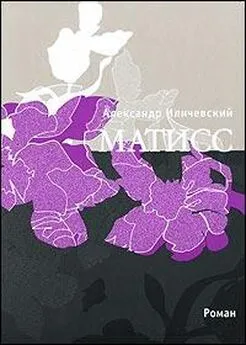Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]
- Название:Бабушка [журнальный вариант]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант] краткое содержание
Текст журнала «Москва» 2017
Бабушка [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Помню приземистый беленый дом из толщенного кирпича, без окон, с огромными чугунными двустворчатыми воротами. Как войдешь — прохладный сумрак, над головой — сводчатый потолок тонет в темной вышине, посреди лавки — огромная черная цистерна с керосином стоит на ножках… Пол земляной, пропитанный на аршин керосином. И запах — чудесный, век бы отсюда не уходил! Хмурый керосинщик в черном халате принимает деньги, берет огромную, больше моего жбана, воронку…
А за баллонным газом приходилось постоять — его привозили нечасто, и стекались на газовую станцию все держатели баллонных плиток, поголовно, а это сотни людей. И мы с тремя нашими пузатенькими баллонами часами томились в очереди под непрерывное мычание коров — за забором газовой станции располагалась скотобойня.
И обязательно кто-нибудь из стоявших за газом говорил:
— Куда же все мясо-то девается, ведь везут и везут каждый день коров на убой! Где мясо, а?
Когда мы остались вдвоем в опустевшей и сразу ставшей холодной избе, бабушка делала вид, что не замечает моих страданий в одиночестве, она хлопотала и приговаривала: «Не хнычь, Санёга, как-нибудь проживем, ты да я да мы с тобой!»
Или еще такое: «Мы с тобой — как рыба с водой», «Остались мы, старый да малый, что с нас взять?».
Мне хотелось после этих однообразных прибауток выть от скуки. И бабушка, словно чувствуя это мое настроение, вдруг начинала плакать чуть ли не навзрыд, и мне приходилось ее утешать: «Да, бабушка, так и есть — мы с тобой как рыба с водой! Только, чур, я рыба, а ты — вода, хорошо?» Бабушка отсмаркивалась, улыбалась широко сквозь слезы, говорила: «Хорошо, Санёга, конечно, ты рыба, а уж я — вода».
Попыталась было выползти на свет божий из своей каморки бабушкина сестра — тетя Лида, надеясь, что теперь она пригодится, что, в отсутствие папы, бабушка перестанет ее чураться и мы будем садиться за стол втроем — я, бабушка и она. Это было ее последним упованием в жизни. Но бабушка тут же взяла власть в свои руки, показала тете Лиде, кто в доме теперь главный. Я уже не помню, что тогда произошло, но тетя Лида навсегда замкнулась за перегородкой. Лишь иногда — как правило, ранним воскресным утром, тетя Лида приоткрывала свою обитую войлоком дверь, что вела из ее каморки в общие сени, и протягивала бабушке мелочь на пять-шесть свечек, и до меня доносился ее тихий голос: «Николаю Угоднику… Казанской… На помин…» Каждое воскресенье бабушка шла «к ранней обедне», и тетя Лида караулила ее, прислушиваясь к звукам шагов в нашей «передней избе».
Точно так же передавала тетя Лида бабушке деньги на хлеб и крупу, чай и сахар. Этим и жила старушка бессемейная. Она никогда не выходила из дома на улицу, никому не показывалась на глаза, и даже «поганое ведро» выносила в уборную не иначе как дождавшись, когда мы с бабушкой ляжем спать, — мне слышны были ее шаги, когда она, крадучись, выходила в сени. А печку свою тетя Лида топила брикетом из торфа, которым был много лет назад еще забит ее маленький сарайчик в огороде. Брикет она таскала из сарая в корзине, а делали этот брикет верст за тридцать от Егорьевска, на Торфболоте, где был, как я слышал, барачный поселок для рабочих. Туда старались выдавить из города всех сосланных на сто первый километр, к нам в Егорьевск, после отсидки в тюрьме. Там, «на торфянке», им самое место, пусть там хоть сдохнут или перережут друг друга, говорили соседи.
Бабушка очень редко ругалась крепким, ядреным словом, воздерживалась. Даже в минуту крайнего негодования. Как-то ей померещилось (или это в самом деле было?), что тетя Лида льет воду из кувшина своего на землю у крылечка. Бабушка тут же набросилась на несчастную, тщедушную старушенцию с обвинениями в колдовстве и ведьминском заговоре, все причитая: «Ах ты, Лидушка-колдушка, Лидушка-поглядушка».
Бабушка очень боялась сглаза, учила меня быть скрытным, поменьше о себе рассказывать. Однажды я неосторожно, в простоте разболтал соседским мальчишкам про папу и маму: где они работают, про «Лесную промышленность» — это название папиной газеты я произносил со смаком, звонко. Бабушка узнала об этом от тети Светы. «Ты не будь таким сибирским валенком, — срамила меня бабушка. — Ты прям как бознать что, всю сранку — наизнанку!» И, помолчав, убоялась, что я не понимаю слово «сранка», что я могу подумать, что она — некультурная, что она — нехалюза, как молодые:
— Сранка — это срачица, то есть рубашка, и глупый человек ее распахивает перед всеми, обнажает свои болячки.
— Да я знаю уже, — отмахивался я с обидой.
А что касается тети Лиды… Я до сих пор не понимаю причин той нелюбви бабушки к тете Лиде. Может, и не было ее, нелюбви, может, за суровостью и ругливостью бабушки пряталась простонародная любовь к «своим кровным»? Верность привычкам и семейному укладу? Все всю жизнь при ней ругались до полного отупения и непонимания, из-за чего ругаются, и, возможно, бабушка искренне считала, что так и надо, так правильно будет, и по-другому среди своих нельзя. Но одно дело — ругаться хоть на всю округу, за это никто не осудит, и совсем другое — когда родня в беде, кто-то из своих болеет или обворован, обманут, брошен на произвол судьбы. Тут бабушка была готова ночами не спать и отдать, как она говорила, исподнее. Да что там говорить, не только бабушка — все были такими.
Бабушка слова доброго не сказала о своих сестрах безмужних, старых девах, таких же, как она сама, — тете Лиде и тете Нюше, да и замужнюю Марию Николаевну, мою родную бабушку, не больно жаловала, хотя та сразу после гибели моего деда под Москвой в сорок первом стала ходить с другими верующими сестрами своими в церковь и причащаться. Бабушка срамила и чихвостила сестер, но с юных лет служила им, старалась взять на себя побольше забот и хлопот, что в войну, что до войны, что после… Она меняла свой фабричный хлеб на конфеты-помадки и халву и отдавала эти сласти моей маленькой маме. «Чтобы Таня никогда не узнала, что такое война», — говорили тогда сестры Рязановы.
Она в одиночку ухаживала за парализованной матерью своей — несколько лет, вплоть до апреля сорок пятого, когда снесли Марию Дмитриевну на кладбище, а тут и война кончилась, и вдвойне легче задышалось бабушке без войны и без лежачей матери.
Но ругливость, а с нею и навык ко всякого рода склоке, скандалу уже заползли в эти бревенчатые стены, и по-другому жить с сестрами у бабушки так и не получилось. Спустя много лет мама рассказывала мне страшную историю, жуткую прямо, я бы и не поверил, если б не знал моей мамы — да и бабушки, впрочем, тоже.
Маме было почти восемнадцать, уже Хрущев был, она поступила в МГУ, на филфак (через год на журфак перевелась), и жила в общежитии, и вот на зимние каникулы приехала домой, в Егорьевск. За несколько месяцев отсутствия своего в родных бревенчатых стенах мама успела отвыкнуть от бесконечной перебранки и попреков между родными сестрами, ее тетками. Да и мама моей мамы от них не шибко отставала, была из тех, что «на зубок не скостят».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/1094470/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant.webp)