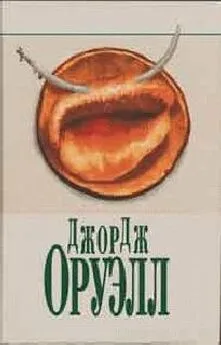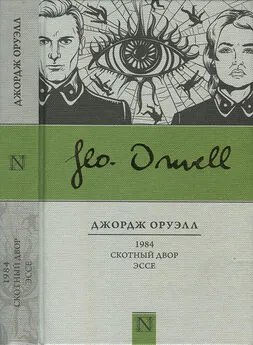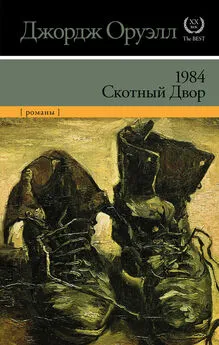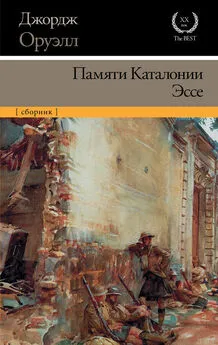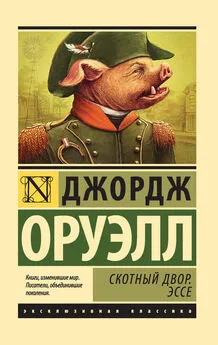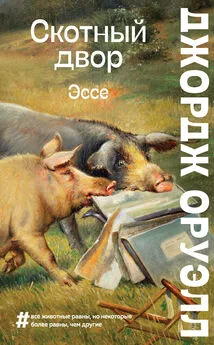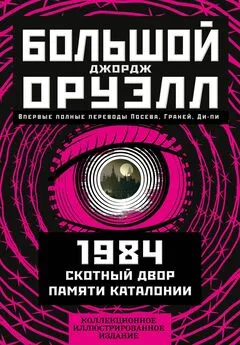Джордж Оруэлл - Скотный двор. Эссе [сборник litres]
- Название:Скотный двор. Эссе [сборник litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция (7)
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-163628-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордж Оруэлл - Скотный двор. Эссе [сборник litres] краткое содержание
Скотный двор. Эссе [сборник litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
1. Никогда не пользоваться метафорой, сравнением или иной фигурой речи, если они часто попадались в печати.
2. Никогда не употреблять длинного слова, если можно обойтись коротким.
3. Если слово можно убрать – убрать его.
4. Никогда не употреблять иностранного выражения, научного или жаргонного слова, если можно найти повседневный английский эквивалент.
5. Лучше нарушить любое из этих правил, чем написать заведомую дичь.
Эти правила выглядят элементарными; они и в самом деле таковы, но от всякого, привыкшего писать в принятом нынче стиле, требуют решительной перемены навыков. Можно все их выполнять и при этом писать на плохом английском, но уже нельзя написать так, как показано было на пяти примерах в начале статьи.
Я говорил здесь не о языке художественной литературы, а только о языке как инструменте для выражения, а не сокрытия или подавления мыслей. Стюарт Чейз [56]и другие были недалеки от мысли, что все абстрактные слова бессмысленны, и под этим предлогом защищали политический квиетизм. Поскольку ты не знаешь, что такое фашизм, как ты можешь бороться с фашизмом? Верить таким нелепостям незачем, но надо понимать, что нынешний политический хаос связан с упадком языка и что некоторых улучшений можно добиться, начав именно с этой стороны. Если вы упростите свой английский язык, вы излечитесь от худших безумств ортодоксии. Вы не сможете говорить ни на одном из наличных диалектов, и если сделаете глупое замечание, глупость его будет очевидна даже для вас. Политический язык – и это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов до анархистов, – предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство – достойным делом, а пустословие звучало солидно. Все это нельзя переменить в одну минуту, но можно, по крайней мере, изменить свои привычки, а то и отправить – прилюдно их высмеяв – кое-какие избитые и бесполезные фразы, всякие ахиллесовы пяты, испытания на прочность, нагнетания обстановки, красные нити, вящие радости, ничтоже сумняшеся, ощутимые подвижки и прочие словесные отходы в мусорный бак, где им и место.
Апрель 1946 г.Лир, Толстой и шут
Статьи Толстого – наименее известная часть его творчества, и его критический очерк о Шекспире [57]даже трудно достать, по крайней мере в английском переводе. Поэтому, наверное, стоит кратко изложить его, прежде чем обсуждать.
Толстой начинает с того, что всю жизнь Шекспир вызывал у него «неотразимое отвращение» и «скуку». Сознавая, что мнение цивилизованного мира против него, он снова и снова брался за Шекспира, читал и перечитывал его, и по-русски, и по-английски, и по-немецки; но «безошибочно испытывал все то же: отвращение, скуку и недоумение». Теперь, в 75-летнем возрасте, он вновь перечел всего Шекспира, включая исторические драмы, и «с еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумения, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава великого, гениального писателя, которой пользуется Шекспир и которая заставляет писателей нашего времени подражать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство, есть великое зло, как и всякая неправда».
Шекспира, добавляет Толстой, нельзя признать не только гением, но даже «посредственным сочинителем», и в доказательство берется разобрать «Короля Лира», восторженно восхваляемого критиками, что подтверждается цитатами из Хэзлитта, Брандеса [58]и других, и могущего послужить примером лучших шекспировских драм.
Затем Толстой излагает содержание «Короля Лира», на каждом шагу находя пьесу глупой, многословной, неестественной, невнятной, высокопарной, пошлой, скучной и полной невероятных событий, «бессвязных речей», «несмешных шуток», неуместностей, анахронизмов, отживших театральных условностей и других изъянов, моральных и эстетических. При этом «Лир» – переделка старой и несравненно лучшей пьесы неизвестного автора «Король Лир», которую Шекспир переписал и испортил. Чтобы продемонстрировать, как действует Толстой, приведу типичный абзац. Вторая сцена третьего акта (Лир, Кент и шут в степи, буря) излагается так:
«Лир ходит по степи и говорит слова, которые должны выражать его отчаяние: он желает, чтобы ветры дули так, чтобы у них (у ветров) лопнули щеки, чтобы дождь залил все, а молнии спалили его седую голову, и чтобы гром расплющил землю и истребил все семена, которые создают неблагодарного человека. Шут подговаривает при этом еще более бессмысленные слова. Приходит Кент. Лир говорит, что почему-то в эту бурю найдут всех преступников и обличат их. Кент, все не узнаваемый Лиром, уговаривает Лира укрыться в хижину. Шут говорит при этом совершенно неподходящее к положению пророчество, и они все уходят».
Окончательный приговор Толстого «Лиру» таков, что у всякого человека, если он не находится под внушением и прочел драму до конца, она не может вызвать ничего, кроме «отвращения и скуки». То же самое относится ко «всем другим восхваляемым драмам Шекспира, не говоря уже о нелепых драматизированных сказках вроде «Перикла», «Двенадцатой ночи», «Бури», «Цимбелина», «Троила и Крессиды».
Покончив с «Лиром», Толстой предъявляет Шекспиру более общее обвинение. Он находит, что Шекспиру присуще определенное техническое умение, отчасти объясняющееся тем, что он был актером, но больше никаких достоинств за ним не признает. Шекспир не способен изображать характеры, а слова и действия у него не вытекают естественно из положений; речи действующих лиц напыщенны и нелепы, собственные случайные мысли он то и дело вкладывает в уста первому подвернувшемуся персонажу; он обнаруживает «полное отсутствие эстетического чувства», и его сочинения «совершенно ничего не имеют общего с художеством и поэзией». «Что бы ни говорили о Шекспире, – заключает Толстой, – он не был художником». Кроме того, его мнения неоригинальны и неинтересны, и его миросозерцание – «самое низменное и пошлое». Любопытно, что последнее суждение Толстой основывает не на словах самого Шекспира, а на утверждениях двух критиков – Гервинуса [59] Георг Готфрид Гервинус – немецкий шекспировед, автор капитального труда «Шекспир» (1849–1850).
и Брандеса. Согласно Гервинусу (по крайней мере, в толстовском прочтении Гервинуса), «Шекспир учил… что можно слишком много делать добра», а согласно Брандесу, «основной принцип Шекспира состоит в том, что цель оправдывает средства». От себя Толстой добавляет, что Шекспир был отъявленным шовинистом, но кроме этого, считает он, Гервинус и Брандес правильно и полно охарактеризовали его мировоззрение.
Затем Толстой в нескольких абзацах очерчивает свою теорию искусства, подробно изложенную в другой статье. Вкратце, она требует значительности содержания, технического мастерства и искренности. Великое произведение искусства должно говорить о предмете «важном для жизни людской», выражать то, что живо чувствует сам автор, и использовать технические приемы, которые обеспечат желаемый эффект. Поскольку мировоззрение у Шекспира низменно, исполнение неряшливо, а искренности нет и в помине, он приговорен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Джордж Оруэлл - Скотный двор. Эссе [сборник litres]](/books/1143542/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres.webp)